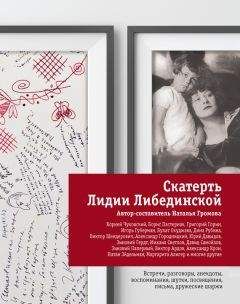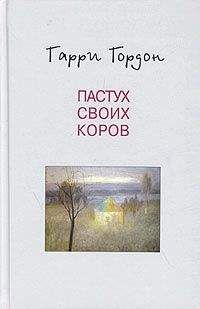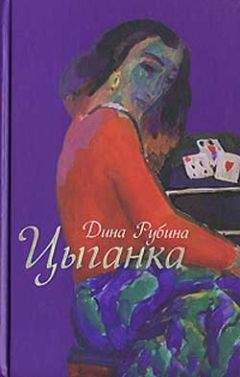Гарри Гордон - Пастух своих коров
— А что тут понимать, — хмыкнул Савка. — Вот я — нищий. А духом блаженствую. Вот от бражки, от черной корочки, от той же коровы…
— Не очень понятно, — нахмурился Серафим Серафимович.
— Савка хочет сказать, что здесь инверсия. Следует понимать: Духом блаженны нищие. Очень может быть. Стилистика такая, ритмизованная проза, к тому же пешер, иносказание — все это предполагает инверсию, как прием…
— Ишь как заговорили, если б вы так писали… А я вас за дурачка держал… Прошу прощения, такая у меня сегодня стилистика. Продолжайте, пожалуйста.
— Ты давай конкретнее, — необъяснимо рассердился Савка.
Лягушка по морю плыла,
Она в отчаянье была.
А чайки квакали над ней,
А крабы замерли на дне.
Лягушка вспоминала, мучаясь
Родной реки родную грязь,
А рядом плыли по-лягушачьи
Мальчишки, весело смеясь,
Ей виделись ее сородичи,
Кувшинки, над водой лоза…
И закрывала она с горечью
Свои соленые глаза.
А это море так опасно.
В нем только даль, в нем только стынь.
И так убийственно прекрасна
Его просоленная синь.
— Опять рифма! Сколько можно говорить!
— Но вы же не дали мне времени исправиться.
— Действительно, — рассмеялся Серафим Серафимович. — Беда с вами. «Мучаясь» — «по-лягушачьи». А по существу, это тоже пешер? Притча? Иначе, как она попала в море, эта лягушка? Вероятно, это что-то про дым отечества? Родной реки родная грязь? Вы, однако, патриот, Петр Борисович. Вот только какого отечества? Я так понимаю, вы своими картинами ублажаете евреев и нуворишей. Вот скажите, Савва, вы исконный русский мужик, ведь должна же восторжествовать в России национальная идея?
— Я, Херсимыч, не знаю. Вот ты меня захмелил, а я тебе молока принес. Или браги. Борисыч мне костюм подарил, а я наловил ему рыбы. Вот и вся идея. А русская она или татарская — не знаю. У меня прабабка, что на шифоньере, татарка была. Чурка. Юсупова фамилия.
— Да-а? — а почему не Шереметева?
«Брага разбушевалась, — подумал Петр Борисович, — пока я читаю, они пьют. Не это ли русская идея?»
— Савка, налей-ка мне кружку. Полную. Пересохло что-то.
Очень не хотелось повторения вчерашней полуссоры.
— Читаем? — лучезарно улыбнулся он.
Земля полна полночных скрипов
Необъяснимых. Может быть
По побережью ходит рыба,
Стучится в двери, просит пить.
Ей открывают. И с участьем
Выносят воду из сеней,
И чепуху на постном масле
Охотно предлагают ей.
И предлагают папиросу,
И предлагают кофейку
Отведать, и никто не спросит,
Зачем она на берегу.
Потом она уходит в поле,
И там, от запаха земли
Она смеется поневоле,
И плавниками шевелит.
Ей вслед хохочут злые жабы,
К ее зрачку комар приник.
Звенит луна и вянут жабры
И выступает соль на них.
И негде ей остановиться —
Земля отчаянно кругла.
Я сплю. Мне снится, что синица,
Синица море подожгла.
Это стихотворение хвалили в моем городе, — опередил комментарии Петр Борисович. — Хотя бы потому, что оно не могло быть напечатано ни под каким видом.
Синица море подожгла.
Фамилия первого секретаря обкома партии была Синица. Я, разумеется, этого не знал, потому что писал это стихотворение в Ленинграде. Да мне и дела до них не было. Я не знал фамилии и ленинградского начальника. Это еще до Романова. Пожалуйста — как только запомнил фамилию вождя, так и перестал быть поэтом.
Так вот, Синица ухитрился остаться в истории города. Его теща жила недалеко от обкома и навещать ее было бы легко, если б дорогу не прерывала улица, уходящая под довольно крутым углом к морю. Приходилось объезжать чуть ли не через весь город.
Товарищ Синица, нисколько не сомневаясь, построил мост через эту улицу — обыкновенный, некрасивый, но настоящий. Его так и называют поныне — «Тещин мост». Таким образом, я нисколько не жалею, что стихотворение не было опубликовано, — произошел редкий случай, когда грубый бетон оказался полезнее и крепче поэтического слова…
— Значит, вы полагаете, — заметил Серафим Серафимович, — что если бы стихотворение было опубликовано, ваш градоначальник перестал бы навещать свою тещу?
— Возможен вариант, — возразил Петр Борисович, — если б Синица взял фамилию тещи, скажем «Паливода», то и мост был бы построен, и стихотворение напечатано.
— И что бы это изменило в истории города? С вами все понятно. Напечатайся вы тогда, у вас развился бы аппетит, вы б завели дружбу с литературными комиссарами, незаметно, слово за словом, шли бы на компромисс, вышла бы книжка, другая, вас приняли бы в Союз писателей, и пить вам водку на конференциях с отборными председателями колхозов. Но прежде вас бы женили и рекомендовали взять в качестве псевдонима фамилию тещи, допустим Синицын. К развалу империи вы подошли бы маститым поэтом, и оказалось бы, что читать и публиковать вас никто не хочет, а человеческой профессии у вас нет, потому что так и не доучились смешивать краски. Беда с вами.
— Борисыч хорошо красит, — прогудел Савка.
— Кстати, о непрожитой судьбе как раз следующее стихотворение.
Скрипит песок, все яростней, все жарче,
Застыл мираж, и стал рыбачьей сетью,
И воздух утомленно-дребезжащий,
Как стрекоза, которой негде сесть.
И, кинув небу чаек изобилье,
И теплой пеной берег просолив,
Ворочаются жирные глубины,
Тяжелые зеленые слои.
Он ковылял по пляжу, словно краб,
Сердитый, недоверчивый и слабый.
И голова качалась, как корабль
Под парусиной стариковской шляпы.
Кружилась голова у старика.
Старик себя сурово упрекал,
Что жил у осторожности в загоне,
Пренебрегая риском, как вином,
Что много лет провел над глубиной,
А глубины ни капельки не понял.
И вот сейчас, в оставшиеся дни.
В отчаянье стремительно раздеться,
Упасть в песок. И пятками, и сердцем
Постичь прибой и задержать отлив…
Над морем проплывали облака,
Уха варилась в доме рыбака,
Подняли чайки мелочный базар,
На лист полыни села стрекоза,
Шли сейнеры, неловкие от груза,
У рыбаков сверкали кремни скул,
И, солнцем ослепленные, медузы
Безвольно разливались по песку.
— Боже, как все намешано, — покачал головой Серафим Серафимович. — Хотя, знаете, я, кажется, начинаю вас понимать. По крайней мере, в морской теме. Кстати, если вы не знаете, там же у вас на юге зародилась целая школа. Ее придумал ученый грек. Как его… Костаниди…
— Костанди, Кирияк Константинович.
— А, знаете? Странно. Смешноватая школа. У них приоритет цвета над формой и состояния над жестом. Доморощенный импрессионизм. Получается, что прозрачные тени диктуют условия. И даже стрекоза, которой негде сесть, оказывается важным агентом. Особенно, если она все-таки садится, но на горькую полынь. Вы, Петр Борисович, умеете обращать свои недостатки в достоинства. Наивность ваша все-таки художественна, и небрежение профессионализмом происходит у вас не от любительства, а от влюбленности.
— У меня даже была строчка, — обрадовался Петр Борисович: — «не любитель, но влюбленный в зыбком ялике сидит».
— Сидит, и пусть сидит, — недовольный, что его перебили, сказал Серафим Серафимович. — Нельзя говорить «у осторожности в загоне». Что еще за загон такой! И эти ослепленные безвольные медузы… Гадость какая.
— Борисыч! — да погоди, Херсимыч, дай спросить, — сердился Савка, — а на что у вас в море ловят? На блесну? Я слышал, там судак.
— Судак, Савва, бывает, но на границе с пресной водой. В гирлах лиманов, например. Иногда, при лиманском течении, он ходит и по морю, но слепнет от соленой воды и не клюет. А в основном что: бычок, ставрида, камбала. Когда-то давно, во времена этих стихов водилась еще скумбрия, и пеламида, и луфарь. Но… Синица подожгла море, а Хаммер построил аммиачный завод, а танкеры с нефтью лопаются, как мидии, извините за метафору. Благородная рыба ушла, и теперь ее кушают болгары и турки. А ловят… Ставридку — на самодур — перышки такие вокруг крючка, камбалу и бычка — на креветку, или на фиринку — килька такая. Впрочем, в последние годы и креветки не стало…
— Везде нелегко, — вздохнул Савка.
На рассвете над Петром Борисовичем склонилось серое лицо.