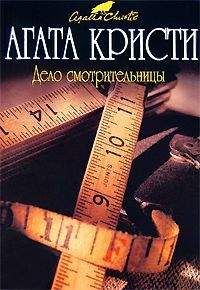Елена Колядина - Под мостом из карамели
– Как махровые маки, только холодных оттенков, голубые, синие, белые, – деловито пояснила ивентер, одернула кожаный жакетик и пошла в холл.
– И где я ей синий крем возьму? – возмутилась пекарь Лете.
Начали съезжаться гости. От ушлых официантов, напрасно ожидавших звёзд первой шоу-величины и потому разочарованных масштабом мероприятия, вся кухня уже знала, что важные персоны – нательные друзья именинницы, рейтинговые телевизионщики и бомонд-духовники, получили приглашения в новый загородный дом мужа. А на дачу именинницы созваны персоны совсем неважные, шоу-публика второго ряда – многочисленные музыканты певицы, мелкие грызуны заполошной радиостанции, начинающие львицы, падальщики светской хроники и никому не известные провинциальные геи, прибывшие покорять богатую Москву с чёрного хода.
– Шелупонь всякая, – пробормотала ивентер, мечтавшая выйти замуж за олигарха.
Появился впервые избранный депутат, который всё не мог прийти в себя от законодательного счастья, и на каждое случайное приветствие расплывался в улыбке, уверенный, что его узнают в лицо. В депутате всё время вступали в реакцию щелочное желание вести себя подобающе-сдержанно и кислотное – наслаждаться правами заслуженно высокого государственного статуса. Образующиеся пузыри депутат нейтрализовал недавно освоенными дорогими коньячными брэндами. Поэтому первым делом он ещё раз отработал метод зачистки места возле спиртного, подсмотренный у лидера ЛДПР.
Как раз в этот момент Лета вышла в каминный зал с блюдом тарталеток и пробиралась к длинному столу через наросты гостей. Она уже протянула руку, чтобы поставить тарталетки, но двое охранников депутата, стриженых, в бюджетных черных костюмах поселковых женихов, с напором, сопротивляться которому было неловко, врезались в шевелящуюся оборку стола и с улыбками отжали толпу, как грейдеры раздвигают груды торфа. Дамы пошатнулись на каблуках и ухватились за спутников и тарелки, Лета едва не выронила блюдо, а несколько уже нетвёрдо державшихся на ногах музыкантов повалились кучей, как заваливаются на сходе с эскалатора. Депутат с укором посмотрел на музыкантов, с матом поднимавшихся на ноги, прошёл к зачищенному отрезку стола и занялся первым чтением этикеток на бутылках.
– Вот козёл, – пробормотала Лета, поставила блюдо и, лавируя, зигзагами пошла на кухню.
Но неожиданно по толпе прошло волнение, все зашевелились, развернулись от закусок и выпивки, кто мог, метнулся в центр зала – в луче света, упавшем с небес через окно второго яруса, появилась именинница с подбородком в обтяжку, накладными ресницами, в лосинах, платье разводами и широких ортопедических босоножках.
– С днём рождения! – понеслось из толпы. – Замечательно выглядите!
– А муж вас уже поздравил? – выкрикнули из-за плеча Леты.
Журналистка орёт, поняла Лета.
– Ещё ночью поздравил, – хрипло сообщила именинница и кокетливо растеребила прядь парика из натуральных волос.
– А что он вам подарил? – не отставала журналистка.
– Ну что ночью женщине дарят? Хотите спросить, занимаемся ли мы сексом? Занимаемся!
Первые ряды рассмеялась, последние – переглянулись и ухмыльнулись.
– А где этот геронтофил? – прошептала кому-то за Летиным ухом журналистка и громко выкрикнула: – А где ваш супруг?
– Вот всё-то вам, журналюгам, надо знать, прямо в душу лезете! – снисходительно попеняла певица, больше всего на свете боявшаяся, что журналисты о ней забудут, и прощайте тогда обложки.
– Да насрать мне на тебя, – пробормотала за Летиным ухом журналистка. – Мне репортаж нужно сдать. Цветы давай, быстрее! Снимай с цветами!
Именинница приняла пестрый букет и улыбнулась фотографу с царственной снисходительностью. Она люто ненавидела журналистов за то, что не могла без них жить. И коллекционировала диктофоны, которые выкупала у репортёров. Репортёры были продажными и легко соглашались уступить редакционное имущество за двести-триста долларов. Диктофонов набралась уже целая коробка из-под старого телевизора. Это было доказательство не увядающего интереса народа к её, певицы, творчеству и личной жизни.
Лета побрела на кухню. Ещё одна корреспондентка, кругленькая, как пончик, решивший всегда быть девушкой, с аппетитными грудями, как пышные нарезные батоны, курила и весело материлась с коллегами в коридоре. Она была известна тем, что на какой-то железнодорожной станции сфотографировала именинницу, в пять часов утра на мгновенье высунувшуюся из окна вагона без парика и макияжа.
– Всю ночь квасили и в карты резались, а под утро музыканты вывалились курнуть, а она им в окно чего-то прокрякала, а тут я, тоже покурить выкатила, – в очередной раз рассказывала корреспондентка о своей удаче. – Трём агентствам и фотобанку снимки слила, каждый по двести баксов.
– А я однажды на Алтае заснял, как президент за сосну поссать отошёл, – фотограф в отвисшей жилетке пятерней вздёрнул воздух над ширинкой.
Все заржали.
– Думал, бабла зашибу – на всю оставшуюся жизнь. В «Рейтер» сбросил, в «Ассошиэйтед пресс», никуда, суки, не взяли. Сказали – фотошоп. Тигры не фотошоп, а хер – фотошоп!
В закутке под лестницей кто-то стонал и шаркался о стену.
Лета вошла в кухню, пустую, как выкрученный пакет из-под майонеза, и села на ящик за дверью. Ей хотелось исчезнуть в темном провале за холодильником, залезть под стол, закатиться в трещину, упасть под плиту, но только не выходить на выступление и не отдавать на потеху этим уродам ее тягучую, ласковую карамель!.. Развлекать мерзкую Ки́шеть самой сокровенной тайной её жизни! Толпу, готовую ради лицемерной избранности стащить с себя и других любые покровы, а самый пожилой человек в этой толпе, вместо того, чтобы остановить шабаш, распаляет неувядающий интерес публики тем, что обнажает старую грудь, седые подмышки и выеденную золотым бесом душу.
– Новикова, ты здесь? – влетела ивентер.
– А? – очнулась Лета.
– Через двадцать минут твой выход! – предупредила ивентер. – Видела под лестницей двух оголтелых?
– Кого? – равнодушно спросила Лета.
– У которых бабочки в жопоте, – ивентер вгляделась в лицо Леты. – А ты чего в углу сидишь?
– Не хочу выступать в этой канаве, – сказала Лета.
– Дай-ка тоже сяду, – она ткнулась в край ящика. – Курнуть хочешь?
Лета покачала головой.
– Зря!
Ивентер затянулась и выпустила струю сладковатого дымка.
– Я однажды с ребенком пришла к врачу…
– У тебя есть ребенок? – удивилась Лета.
– Ага, пять лет зайке. Сладкуся мой, масяня, янтарек, он у меня беленький, волосики золотые, – голос ивентера стал мягким, как крестильная рубашечка.
Вот, значит, как мамы называют своих детей. Зайка, масяня, сладкуся.
– Короче, пришли мы к лору в районную поликлинику. У масяни подозрение на гайморит. И вот врачиха – за копейки в районной поликлинике, понимаешь? – просит масяню высморкаться, подносит эти сопли себе к лицу, смотрит, чуть не нюхает и говорит: «Выделения не гнойные, гайморита нет, погреете озокеритом». И снова внимательно эти, так сказать, выделения, изучает. Понимаешь, люди в жопе ковыряются, в соплях и блевотине. А у нас с тобой работа – праздник каждый день.
– Да я бы лучше в жопе, чем перед этими… – сказала Лета, встала и поставила ковш на плиту.
– Да, публика сегодня левая, глянуть не на кого, хоть бы один козёл из списка «Форбс».
– А зачем он тебе? – взвешивая сахар, спросила Лета.
– За тем же, зачем и тебе – чтоб денег по горло.
– А зачем столько? – хмыкнула Лета.
– А что, ребёнка можно вырастить без денег?
– Дети и в войну, и в блокаду рождались. Ребёнку главное, чтобы его любили. Голубые кроватки и розовые коляски – для родителей, а не для детей. Моя бабушка родилась недоношенной и две недели лежала в обувной коробке на печке. Дети до года вообще вблизи плохо видят, им нравится запах матери.
– А ты откуда знаешь? – усмехнулась ивентер.
Лета осеклась. Действительно, откуда ей знать, как пахнет мама?
– Товарно-денежные отношения – самые честные, – заявила ивентер. – Можно сказать, целомудренные. Внимательно читай ценник, и никогда не будешь обманута. Ну, что покажешь публике на все деньги?
– Что-нибудь тупое, – сердито сказала Лета. Она была плохим проповедником, никто не хотел верить в то, во что верила она. – Красные сердца и розовые розы.
Лета ненавидела приторный розовый, развратный красный, а так же настырное золото и расцветку «под леопарда». Но ей казалось, если она, как и задумала сначала, покажет этой пьяной толпе леденцовые весенние тюльпаны в струях прозрачного как березовый сок дождя, карамель не переживет предательства и замкнётся в себе.