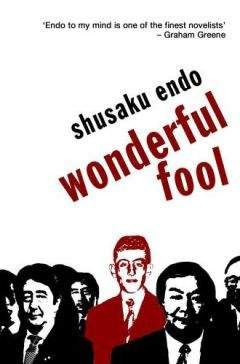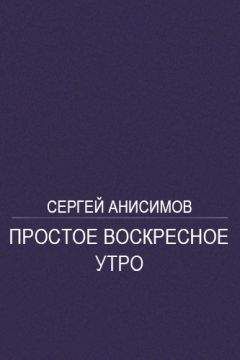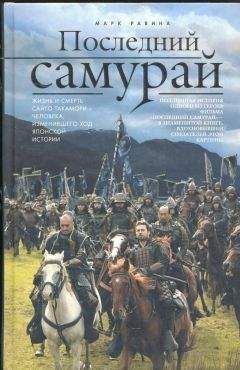Мари-Клер Бле - Современная канадская повесть
За безумные деньги они сняли дом на Данвеган-роуд и наняли миссис Боксли, седовласую английскую бабулю, вести хозяйство и смотреть за ребенком. Вера снова занялась рекламой нижнего белья у «Кауэна, Кроуфорда и Эйсли», а Лэндон облюбовал себе чердак, огромную берлогу, где он изучал балки и перекрытия старого дома, либо сидел и писал немыслимый диалог, сгорбившись над пустым и кем-то брошенным матросским сундучком, заменявшим ему стол. Под ним миссис Боксли чистила пылесосом комнаты и распевала популярные песни военных времен из репертуара Грейси Филдс и Веры Линн. Она и понятия не имела, что иногда Лэндон, тоже большой любитель минувшего, тихонько напевает вместе с ней «Белые скалы Дувра» или «Пел соловей на Беркли-сквер».
Вечерами он смотрел по телевизору работу других сценаристов или читал книги, взятые в библиотеке. «Десять шагов на пути к карьере телесценариста», «Справочник телесценариста с указателем рынков сбыта», «Как продать вашу пьесу на телевидение?» В пустой комнатенке рядом с кухней Вера в черном трико и водолазке делала упражнения под музыку из «Лебединого озера». После рождения ребенка она пыталась восстановить форму, для чего извлекла из недр памяти балетные уроки детства. Уперев руки в бока, она энергично сгибала ноги в коленях или с фантастической легкостью порхала по комнатке на пальчиках, сосредоточенно покусывая губы и хмуро поглядывая на репродукцию Дега «Танцовщица с букетом». Волосы туго стянуты в темный пучок, да еще этот костюм, от которого мурашки по коже, — вид у нее был жутко грозный, того и гляди живьем съест. Он знал — тут еще и потребность выпустить пар. И еще — эта диковинная джига была пляской воина перед походом.
А его работа тем временем шла из рук вон плохо. С отчаяния он перестал писать пьесы и взялся за роман. Речь опять-таки шла о детстве, но лиха беда начало, и что-то вроде стало получаться. Он вдруг оказался в тисках чего-то таинственного и замечательного. Страница за страницей слетали с машинки, и угнетенный дух его снова воспарил. Каждый день он просыпался в возбуждении, эта работа обогащала его, он смотрел на мир новыми глазами. Он поддался ее колдовским чарам, в нем действовала какая-то неведомая внутренняя сила, перед которой он преклонялся, как перед святыней. Они правы, черт бы их подрал, историю не обманешь. Жизнь художников полна тягот и лишений, и все же они — счастливцы. Он писал неистово, торопливо, уверенный, что напал на жилу, что черпает из глубокого источника всех творческих деяний. Под его клацающей машинкой старый корабельный сундучок словно трясся, отдавая хранившиеся в нем сокровища — существительные и глаголы, наречия и прилагательные. Вера заметила, что он словно ожил, и саркастические выпады с ее стороны прекратились. Известие о том, что он пишет роман, она встретила странным молчанием. Охваченный дьявольской страстью, он писал так две недели, расточительно сжигая свечу своего вдохновения с обоих концов, и вот стеариновая палочка зашипела, брызнула напоследок пламенем — и погасла, погрузив его чердачное логово во мрак.
Как-то в пятницу он уселся за машинку, предвкушая еще один хороший рабочий день, но вдруг что-то разладилось. Так складно, как раньше, уже не писалось. Некоторые куски получались безжизненными, персонажи местами произносили какую-то несуразицу. Перечитывая написанное, он узнал нескольких знакомых из своего отрочества, лишь слегка замаскированных. Одного из них, некоего Джека Сполдинга, он никогда не любил и вот теперь, изрядно исказив истину, вывел его эдаким злодеем. Если этот роман опубликуют, Сполдинг запросто может подать в суд; а то еще лично заявится в Торонто из Бей-Сити и уложит Лэндона с одного удара — он сейчас преподавал физкультуру в школе. Но не годилось и многое другое, не годилось катастрофически. Слова тяжеленные, какой-то железный колчедан, золото дураков, а благородного металла тут не было и в помине. Душа Лэндона стонала, изнемогала от отвращения. Он читал рукопись, и собственные слова били его в солнечное сплетение. Он чувствовал, что тонет, и, подобно умирающему, жаждал начать с нуля, выйти к стартовой черте, предпринять еще одну попытку. Но, как и умирающий, он знал: у него не хватит воли, не хватит сил. В десять часов он смылся из дому и, как беглец, весь день прятался в темноте кинотеатра. Там шел «Мятеж на Кейне», и Лэндон, завороженный, смотрел, как Хэмфри Богарт в роли этого сумасброда Куига перебирает стальные шарики, сидя перед судом присяжных[25].
Наступали выходные, он изо всех сил старался не думать о романе. Ему позарез нужно было отвлечься — что угодно, только не идти наверх к матросскому сундучку, этому ящику Пандоры. Вера была больна, лежала с сильной простудой, и в субботу утром Лэндон, снедаемый чувством неизбывной вины, выскользнул из дому и посмотрел еще три фильма. Остаток выходных он безвылазно просидел перед телевизором, совершенно одурманенный мешаниной из футболистов, хоккеистов, поющих кукол и циркачей-эквилибристов, Элмера Фадда и Человека-шара[26]. В спальне наверху под стегаными и ватными одеялами лежала Вера и читала роман под названием «Не как посторонний»[27]. Все время брюзжала и капризничала, больная, она была невыносима. Телевизионный марафон Лэндона выводил ее из себя, иногда она кричала сверху: нельзя ли потише? Когда он принес ей аспирин и апельсиновый сок, она была готова накинуться на него с кулаками.
— Как проводите выходные, мистер Интеллектуал? «Мышкитеров»[28] уже проработали?
Лэндону было жаль ее. Она лежала в постели вспотевшая и бледная, острый носик покраснел и чуть вспух от частого пользования салфеткой, обычно живые глаза превратились в застывшие камни. Она знала, что выглядит ужасно, и негодовала из-за этого. Страдало ее тщеславие, она становилась более уязвимой. Когда миссис Боксли ушла на выходные, Лэндон мудро определил границы своей территории и старался их не нарушать. Чтобы успокоить крошку-дочь, он играл на полу в какие-то игры, корчил идиотские рожи и изображал из себя утенка Дональда и Мортимера Снерда[29]. В старой кухне с высоким потолком он открывал банки с морковным пюре и телятиной, грел молоко на плите, и, поднося спичку к шипящей струе газа, которая тут же превращалась в огненно-голубое кольцо, каждый раз боялся — а вдруг взорвется? Но он был рад, что эти простые заботы позволяют ему отвлечься. Закатав рукава выше локтя, он менял мокрые пеленки, случалось, прихватывал себя прищепкой за палец, но в общем управлялся и многое осваивал. Ему удавалось сохранять мир, и в доме царило натужное затишье.
В понедельник вернулась миссис Боксли, и Лэндон с тяжелым сердцем поплелся на свой чердак. Дрожащими руками он принялся листать рукопись романа. Увы, опасения трехдневной давности подтвердились — нет, приумножились. Спасти его детище можно лишь одним способом — переписать все заново. А не пора ли вообще положить конец этой писанине и начать жить как все нормальные люди — без лишних претензий? Ему не удалось выбиться, но что из того? Многим не удается. Вот и стань одним из многих. Стыдиться тут особенно нечего, к тому же, если не поленишься намотать себе на ус, из неудачи можно извлечь важный урок. Проявляй смиренность, терпение, стойкость духа, еще кое-какие возвышенные качества. Но — пропади все пропадом, гори огнем — до чего он болезненный, этот урок! Ведь теперь нужно надеть свою неудачу, как шутовской наряд, и выйти в нем на люди. Это будет балахон из векселей, а в прорези будет унизительно торчать его голова. Лэндон смотрел вниз на улицу через чердачное оконце и клял себя за несостоятельность. В общем, придется устраиваться на работу, а писать можно по вечерам и в выходные. То, что он накропал, — побоку, и искать место, может, где-то в рекламе или на телевидении. Но не сейчас. Было начало декабря, и, раз уж он четко решил переменить курс, пусть останется время на то, чтобы свыкнуться с этой мыслью. Поскольку Лэндон обожал выходить к стартовой черте, он сказал себе: начну искать работу в первый понедельник нового года. В этом было что-то символическое. А пока, до конца месяца, он может с чистой совестью бездельничать и размышлять над великими переменами, которые грядут в его жизни. Вере он скажет в канун нового года, и она, конечно, будет рада это слышать. Когда-то она считала его человеком талантливым, но теперь полностью в этом таланте изверилась. Что ж, она права. Всему есть предел. Его охватило необычайное возбуждение. Словно гора свалилась с плеч.
Всю следующую неделю Лэндон лишь делал вид, что пишет. Каждое утро он протаскивал в свою берлогу книжки о путешествиях и детективы Эллери Куина[30]. А заодно хрустящий картофель, шоколад «Натти бранч» и фрукты. Он вдруг воспылал страстью к апельсинам — перочинным ножом производил вскрытие плода, четвертовал его, а потом высасывал каждую дольку до корки, прижимая ее к зубам, как боксерскую капу. Зима строила козни, погода чудила и плутовала, по небу перекатывались громадные темные облака и посылали на землю потоки града, который барабанил по крыше над головой Лэндона. Градины шрапнелью рассыпались по газонам, но тут же исчезали в лучах невесть откуда взявшегося солнца. Пожевывая препарированный апельсин, Лэндон читал об охоте на слонов в Кении или глазел в окно на загустевшее небо. Вера постепенно выздоравливала, но оставалась слабой и раздражительной. Дабы не быть заподозренным, Лэндон время от времени постукивал на машинке, выдавал какую-то белиберду на уровне комиксов, а то и просто тюкал по клавишам-знакам: звездочка, доллар, процент. Иногда рожал кретинские афоризмы. «Если жизнь — это ваза с вишнями, то кто подбирает косточки?» Или: «Я видел лучшие дни, но, к сожалению, они не видели меня». Ближе к вечеру он собирал эти дурацкие, испещренные невесть чем страницы и сжигал их в корзинке для бумаг — горестный и подлый ритуал самозванца.