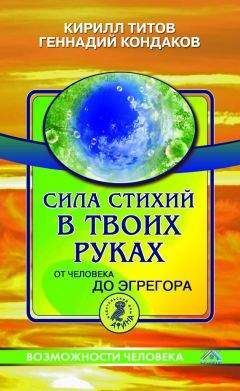Фридрих Горенштейн - Место
Иванов, конечно, тоже был русский, но этим выражением «нам, русским» скуластый как бы отлучал его от народа и на что-то намекал. Где-то я скуластого видел, мне даже показалось, что рядом с Орловым, впрочем, нет, ошибаюсь, да и организация Орлова не московская.
– Позвольте,– повторил скуластый,– прежде всего я бы хотел отметить, что здесь некоторые бывшие русские,– скуластый по-моряцки заиграл желваками, и вообще в нем было что-то матросское, массивное, косолапое,– некоторые бывшие русские распространяют здесь слухи и пытаются нас припереть к стене, рассчитывая на нашу природную русскую доверчивость, разными стонами по поводу еврейских бед.
– Гражданин! – крикнул председательствующий.– Собрание закрыто. Сейчас же покиньте сцену, или я вызову милицию.
– Ах ты, сука! – крикнул скуластый.– Еврейский адвокат здесь часами публику дурачит, а меня в милицию… Мы еще выясним, как это ты способствовал такому докладу…
– Сталинский мерзавец! – звонко и злобно крикнула Маша.– Стукач!…
– Сама ты проститутка,– откликнулся скуластый.
Я рванулся, рванулся и Коля, но его за руки удержал журналист, очень сосредоточенный и побледневший. И тут же у меня екнуло сердце, ибо я увидел, что в другом конце залы к скуластому рванулся Иванов-докладчик. «Значит, он любит Машу»,– горько пронеслось в мозгу. И после этого наступило некое странное, неопределенное состояние. Между тем в зале и на эстраде уже бушевал шум и скандал, тот самый, неизбежный в таких случаях и долгожданный, столь радостный большинству. Но вот на эстраду поднялся парень в мягкой белой рубашке, тоже светловолосый, как и председательствующий, однако с легким золотистым отливом, ударяющим в рыжинку. Он был в очках, которые поправлял привычным жестом, прикасаясь пальцем к переносице.
– Товарищ председатель,– сказал он,– раз уж дискуссия началась, то мне кажется, надо ее закончить пристойно.
Председатель, совсем растерявшийся и с отчаянным, чуть не плачущим выражением лица наблюдавший спор и беспорядок, увидал этого спокойного, мягкого человека рядом (он действительно был весьма мягкий и одеждой и внешностью), так вот, председатель ухватился за него как за соломинку.
– Тише,– крикнул председатель, как бы забывая, что сам же он закрыл собрание,– сейчас будет выступать в порядке дискуссии… – и он вопросительно повернулся к рыжевато-золотистому, надеясь, что тот подскажет ему свою фамилию. Но тот, не ожидая конца фразы председателя, сразу начал:
– Я евреям не враг…
И в фразе этой было столько простоты и мягкости, что сразу же восстановилась тишина. Скуластый же и вовсе, когда явился этот новый оратор, разом притих и полез с эстрады.
– И Достоевский евреям не был врагом, о чем он неоднократно писал и на что указывал… Но вот тут-то и загвоздка. Во взаимоотношениях с евреями можно быть либо пристрастным к ним и не замечать очевидных фактов, либо тебя обвинят во всех грехах. Давайте поговорим не о быте, который дело преходящее и трудноуловимое, а об идеях… Гнушайся, единись, эксплуатируй и ожидай – вот суть этой еврейской идеи… Выйди из народов, и составь свою особь, и знай, с сих пор ты един у Бога, остальные истреби, или в рабов обрати, или эксплуатируй. Верь в победу над всем миром, верь, что все покорится тебе.
– Это цитата или это ваши слова? – выкрикнул Иванов.
– Разумеется, цитата,– ответил рыжеволосый.
– Откуда?
– Разумеется, из подлинника,– сказал рыжеволосый,– из древнееврейской рукописи.
– Допустим,– сказал Иванов,– хоть на слово верить нельзя, особенно подобной личности.
– Только без грубостей,– сказал рыжеволосый.– Я ведь вас не оскорбляю и ваших любимцев не трогаю… Главное – вежливость…
– Допустим,– повторил Иванов,– но не является ли это вообще психологической основой определенного исторического периода жизни? Я бы сказал, когда в отношениях между нациями господствовала откровенность. И не напоминает ли это, например, кредо того же Московского княжества, значительно более молодого, чем та рукопись… Завоевание Сибири, например… Или Кавказа… Истребление ногайцев, женщин, стариков, детей фельдмаршалом Суворовым… Разумеется, это несло в себе идею объединения… И это дела царизма…
– Что-то вы заспешили с оправданием,– негромко сказал рыжеволосый, не почувствовали ли вы сами, что слишком уж далеко зашли в своей ненависти к России…
– Нет, это вы враги России,– не выдержав, а может, и невольно напуганный столь грозными обвинениями, выкрикнул Иванов,– вы поете старые песни.
– К сожалению, недопетые,– отпарировал рыжеволосый, все больше утрачивая первоначальную мягкость и активизируясь.
Публика же в основном молчала, наблюдая и чувствуя, что все стало уже слишком серьезным и опасным. Лишь какой-то парень, явно из тех, кто любит правду-матку, встал и сказал, обращаясь к председателю:
– Прекратите же наконец эту антисоветчину!
– Вы хотите антисемитизмом спаять народ? – выкрикнул Иванов, не обращая внимания на бессильные протесты председателя, обманувшегося и в рыжеволосом.
– Мы хотим истины,– сказал рыжеволосый,– и можете нас за истину обзывать как угодно… Мы хотим истины не всемирной, а русской… Мы знаем,– выкрикнул он вдруг, побагровев и совершенно утратив мягкость, став вдруг даже лицом похожим на скуластого, словно прятавшиеся под мягкими щеками скулы выперли наружу.– Мы знаем, как евреи умеют мстить… Мы знаем, что в КГБ их люди составляют списки всех врагов еврейского засилья…
Эти аргументы я уже слышал, причем от Щусева. Не знаком ли рыжеволосый со Щусевым?
Но в этот момент я был отвлечен от своих мыслей журналистом, который встал как-то решительно и твердо. (В такой решительности всегда есть нечто показное и театральное, даже при вполне искреннем порыве.) Руки его несколько дрожали, наверное, тоже от избытка этой решительности и нервного внутреннего напора, от которого, как он почувствовал, должен немедленно освободиться. И дрожащими этими руками он перебирал и складывал какие-то листки, мятый и потертый вид которых говорил, что заготовлены и хранились они давно. Вот так, с этими листками, журналист и вышел к эстраде. И интереснее всего, что едва он вышел к эстраде, как его тотчас же узнали многие, в то время как ранее его даже не хотели сюда пропускать, а в толпе он совсем затерялся. То ли, решившись на выступление, он преобразился и вернулся к прежнему облику «вождя молодежи», каковым был еще три года назад, в начале либерализации, то ли, выйдя к эстраде, на которую было обращено множество взглядов, он стал попросту заметнее в толпе. А взгляд толпы – это особый взгляд. Во всяком случае председатель, увидав здесь, на третьестепенном заштатном диспуте, всесоюзную и даже всемирную фигуру, так растерялся, что даже и слова журналисту не предоставил, а единственно, несмотря на подавленность происходящими событиями, улыбнулся и, торопливо налив стакан свежей воды из графина, поставил его на некое подобие кафедры, которой, кстати сказать, предыдущие ораторы не пользовались. Журналист же сразу оперся на кафедру и разложил на ней мятые свои листки.
– Ну вот,– сказал он, нервно потирая руки,– ну вот, дорогие мои, мы только что присутствовали с вами на неком подобии свободы слова, разумеется, в миниатюре, в неком случайном и самодеятельном ее проявлении. Но такое может воцариться во всей России и вполне профессионально.
Ропот прошел по залу. Я видел, как напрягся взволнованно Коля. Журналист заглянул между тем в листки, пошелестел ими и сказал:
– Мой доклад, собственно, имеет даже и заглавие: «Новые вопросы и старые разочарования…» Именно так… Свобода слова ныне для нас действительно новый вопрос. Но разочарования будут старые. Порожденное свободой слова вольнодумство и демократия улицы, которая во времена стабильной тирании скована, как и духовная свобода, выльется в разнузданное насилие… Убежден, что еврейские погромы в царской России явились результатом вольнодумной децентрализации общества и были свидетельством элемента демократии, коснувшейся и правительства.
В зале неожиданно зааплодировали в том месте, где сидела компания рыжеволосого эрудированного антисемита. Эти аплодисменты явно смутили журналиста.
– Вы меня, собственно, не так поняли,– обернулся он к аплодирующим.
– Нет, они вас так поняли… – звонко и злобно выкрикнула Маша, обращаясь к отцу как к чужому и как к врагу.
Это совсем уже сбило журналиста, он почему-то быстро-быстро зашелестел своими мятыми листочками-тезисами.
– Маша, милая,– окончательно растерявшись, обратился журналист с кафедры непосредственно к своей дочери-оппонентке, чем вызвал веселый смех залы.
Я видел, что Коля страдает и мучается, но еще не может понять, то ли ему возненавидеть и разочароваться окончательно в отце, что намечалось уже в самом начале хрущевских разоблачений, то ли, наоборот, прийти отцу на помощь, ибо он видел, что отец eго растерян и его благородная львиная седина (журналист поседел рано, что придало ему «львиный», величественный вид), и седина эта стала объектом развеселого студенческого молодого улюлюканья, столь сладостного в период оппозиционного оплевывания авторитетов.