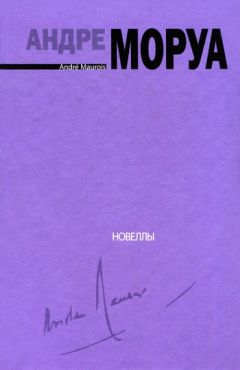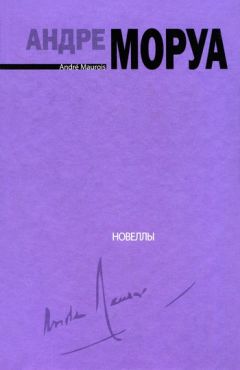Шандарахнутое пианино - МакГуэйн Томас
Затем Энн принялась догонять. Она увидела, что он себя изобрел ab ovo {92}. Ее расстроило. После первой трещинки он все просрал. Она звала его миражом. То был конец их недели. Она по-настоящему на него набросилась. Неискренности. Подсознательные бортовые залпы. Но обидно ему стало из-за этого самого миража. Имелись определенные области, где миражом он не был. Точка. Имелись определенные области, где он был неумолим, разве непонятно.
Он выпнул ее вон. Энн выяснила, что он не мираж, таким манером, что осеклась скорее резко, чем быстро. Парадокс: оказаться выгнанной из дому миражом. Ему нравилось так все ощущать. Фактор отдачи действительности. Теперь он такого не замечал. Такого рода нетерпенья. Но его вынудили. Два года самого остроконечного притеснения в собственном доме.
Через десять дней он ее увидел. Научная выставка в средней школе. Он в точности это запомнил. Там была Энн. Прямо там, где они могли друг друга видеть. У стены стояла диорама под стеклом. Предполагалось, что это Патагония. Он запомнил одно дерево, увешанное гипсовыми плодами. Похожи на гранаты. Над всем, на тысячах тонких проволочек, висела туча синих попугаев. Он ушел без единого слова. Самонадеяннейше дешевая разновидность гордыни. Не говоря. Он заплатит.
Ночь ложной весны. Он был в саду за домом. У него с собой матерчатый мешочек подсолнечных семечек. Он был пьян. Семечки он пихал в землю указательным пальцем. Небо походило на крышу диорамы. То была Патагония. Его тоже выставили экспонатом. Последовательно он в это не верил. Теперь он в это не верил. Но еще поверит вновь.
В случае его матери вскоре за кулисами обнаружился красноносый монсиньор, готовый его наставлять. Монсиньор сообщил Болэну, что, если тот «этого» не бросит, — будет жариться на вечном огне, как баранина. Что бы там Болэн ему на это ни ответил, монсиньор подскочил в возбужденье. Чуть до драки не дошло.
Болэн взошел по лестнице банковского здания в кабинет окружного казначея. Он искал работу. Лестница вихрилась над зеленой застекленной крышей банка на первом этаже. Неким образом все это отвратительное здание начало топорщиться, запульсировало. И он выронил свой портфель-дипломат сквозь застекленную крышу. Делопроизводитель взглянул на него снизу вверх сквозь дыру. И Болэн увидел, что лучше пусть на тебя глядят снизу вверх сквозь дыру, сколь бы ты ни сбрендил, чем самому быть глядящим делопроизводителем.
Он принялся мыслить в понятиях крупных жизненных перемен, об искусстве и мотоциклах, горах, грезах и реках.
Останься на закат. Этот чувак — цвета клубники. Он подползает по ручью Стриженый Хвост и расцветает в елках. Он полосует потолок повозки, оттеняет пористый «хадсон» и, сквозь жалюзи, делает что-то дикое из Болэнова лица.
9
Без ведома Болэна редкий черноногий хорек, что для колонии сусликов нечто среднее между Си-Си Райдером и Стэггером Ли {93}, метнулся из своей берлоги и пересек Окружную дорогу 87 между Дождливым Холмом и Бизоньими Ключами, Северная Дакота; неподалеку, вообще-то, от Кедра, что есть южный рукав реки Пушечное Ядро. Это редкое крохотное злобное шушешство чуть было (случайно) не переехалось К(лопусом) Дж(еймзом) Кловисом, всесторонней личностью всеобъемлющих грез о нетопырных башнях, коя жала на Запад в своем «Моторном доме Додж».
Единым махом Кловис оправдал по крайней мере летние траты. Применяя лишь местную рабочую силу и сам выступая прорабом, он возвел нетопырную башню на Западе и предоставил первые безгнусные условия пикнику «Американского легиона» {94} в Опоросе, Северная Дакота. С некоторой радостью наблюдал он, как летучие мыши бросают родные высокие крутые холмы и тучей вьются по сухим руслам и гравийным отмелям, в ивах и тополях, нетопыри в древесных кронах и небесах изливаются дымом из своих пещер и дыр, из обиталищ своих в утесах и полых столовых горах, устремляясь к первому Западному Нетопырнику Кловиса с его квартирами класса А-1. У маленьких «маянских» входов затевались нетопырьи бои. Принцип тут — и неизбежно — кто смел, тот и съел. На краткое время крысы одержали верх в летучих мышах; на маленьких ярусах лоджий разразилась нетопырья война. А ниже, со своим первым клиентом Долтоном Трюдом, мэром Опороса, стоял встревоженный К. Дж. Кловис и слушал отдаленную потасовку. Вот начали падать жертвы схватки; черные викторианские перчатки; смертетрепет.
Но едва все успокоилось и всяческих оголтелых нетопырей анархии либо сшибли вниз, либо отправили назад к утесам, Кловис понял, что башня действует. Через два дня провели пикник, и в сумерках, в вышине над «горячими собаками», жареными курами и целым сральником картофельного салата, собрались летучие мыши. Вполне сам по себе разразился приветственный клич. Ура! Ура этим нетопырям! Ура Пикнику Опоросного Отделения Американского Легиона! Ура К. Дж. Кловису из корпорации «Нетопырник Савонаролы» {95}. Ура!
Кловис отправился в путь.
Он едва не сбил черноногого хорька. Он переехал Кедр, сиречь южный рукав Пушечного Ядра, между Дождливым Холмом и Бизоньими Ключами, Северная Дакота.
К. Дж. Кловис направлялся в Монтану.
Опускавшееся небо несло через Ливингстон дым от древесно-массного завода. Болэн посмотрел на картинки родео на стене салуна «Долгая ветка», праведным мановеньем руки отказался от другой порции выпивки. За ночь самый северо-западный квартал Главной улицы выгорел дотла. Двадцать четыре постояльца «Гранд-Отеля» спаслись невредимыми. Из швейного ателье в смятенье выбежал пожарный, таща пылающий манекен, с криком: «С вами все будет хорошо!» Все хорошо с манекеном не было. Он превратился в лужу горящего пластика и не один час испускал ядовитый черный дым. Пара наштанников, принадлежавших человеку, отряженному в похоронную команду после битвы у Маленького Большого Рога {96}, бесследно потерялась. Как и мексиканский ленчик с серебряной лукой. Как и пидарская коллекция бомбазинных прикидов. Как и птица, ловушка, боло. Вся эта дешевая розница, без следа.
Болэн обошел зону пожара. Вокруг пожарной машины куролесили несгибаемые добровольцы, опрыскивая золу и пробуя разное. С гостиницей, казалось, все в полном порядке; но нехватка окон, необычная темнота интерьера сообщали, что никого нет дома. Возможно, лишь какой-нибудь коммуняка.
Насквозь по всей Главной было разбросано стекло. Витринное окно «Рынка приборов Пола» выбило, когда стены выгнулись, и второй этаж провалился в погреб. Папку с рецептами «Городской аптеки» спасли и переместили в «Общественную аптеку», где заказы выполнялись как обычно. Упреждающая пропитка водой крыши «Западного авто» привела к необычайному ущербу от воды. Бозмен прислал своего самого крупного машиниста насосной установки и четверых пожарников. Давайте же похлопаем Бозмену. «Подростки Ливингстона оказали помощь при „зачистке“ „Городской аптеки“», — двусмысленно провозгласил мэр. «Ливингстонское предприятие» упоминало «ревущую преисподнюю», «силуэты пожарных на фоне пламени», «печальный день для всех затронутых» и различных личностей, «прилагавших все силы».
Это, подумал Болэн, глазея на разор и погибель, — сгоревший квартал моих надежд, орошенный пожарными бригадами всамделишной жизни. Какая-то гнида подписала меня на левый приход. И, честно говоря, не понимаю, с чего бы.
Вроде дождь будет. Тем не менее голову подняло искусство. Энн внесла свои книги внутрь, определители и романы; и поставила полевой бинокль на стол в вестибюле. Из футляра вытащила фотоаппарат и водрузила его на алюминиевый штатив, а затем натянула дождевик и снова вышла наружу. Штатив она сложила и понесла все это хозяйство на плече, как лопату, пересекла двор, пролезла сквозь две нижние пряди проволоки и обогнула навоз — так всю дорогу до неорошаемой возвышенности, где душистыми полосами синевы рос шалфей. Небо серебрила молния, и это ее пугало на славу — она благоразумно избегала рисоваться на вершинах холмов. Когда наконец установила камеру, ровной земли у нее не было, и пришлось подпирать штатив камнями. Она часто заглядывала в видоискатель, сверяясь, пока не почувствовала, что все на месте, и начала сочинять композицию. Видоискатель изолировал ясный прямоугольник окрестности; три слегка пересекающихся и нисходящих холма, вполне вдалеке; вечерний свет распределяется из-под густого облачного покрова. Холмы делили кадр единственной напряженной линией; и хоть она считала, что в копьях света есть что-то утомительное и тёрнеровское {97}, ей нравился накал тополей, чьи очертанья мягко усеивали резкие контуры холма. Она выучилась предварительно переводить весь цвет в серую шкалу, чтобы можно было управлять фотографией в черно-белом. Ей нравилось видеть, что шкала здесь будет абсолютна. Белая, обжигающая молния с ее долгим полусветом вспышки, распределенная по просматриваемой области до чисто черных теней в лощинах и оврагах. Энн ощущала эту полярность света с чуть ли не физической опаской; толчки молнии казались плотными и жесткими. Объектив она чуть вывернула из фокуса, чтобы преувеличить контуры композиции; затем вернула его к бритвенной остроте. Затаила дыхание, словно стреляла из ружья, и руку оставила бережно поддерживать объектив, поглядывая вниз на его пастельные цифры глубины резкости, на три алюминиевые ноги, раскрывавшиеся из-под аппарата звездой. На верхней губе у нее выступила легкая испарина, пока она подрезала, наводила на резкость, подбирала диафрагму и выдержку до чистой фотографической четкости, которую воспринимала воображением. В картинку непременно должна попасть молния, иначе получится глупая открытка. Но молния сверкала беспорядочно, и Энн никогда не понимала, когда та появится. Ей хотелось, чтоб та была далекой и левее нижнего края холмов, чтобы композиционное равновесие оказалось пристойным. Пока буря, еще далекая, нарастала, удары молнии возникали с большей регулярностью — с такой, в какой Энн уже начинала ловить ритмичность. Она попробовала предвосхитить этот ритм, чтобы успеть спустить затвор в подходящий миг; при каждом нырке молнии, при каждом обжигающем проблеске она сжимала мышцы и постепенно подбиралась к интервалу, пока, после дюжины мгновений или около того, не отступила от фотоаппарата со спусковым тросиком, зажатым между пальцев, и не подвигалась — очень слегка — вся с головы до пят. Глаза у нее были закрыты, следует сказать. Через несколько мгновений этого утомительного занятия она открыла глаза, ошеломленная, и спустила затвор в ту микросекунду, когда замерцала молния, вдали, над нижней оконечностью холмов. Черное и белое, убывающие серые, знала она, обездвижились и стали прекрасны на тридцати пяти миллиметрах эмульсии азотнокислого серебра внутри ее аппаратика.