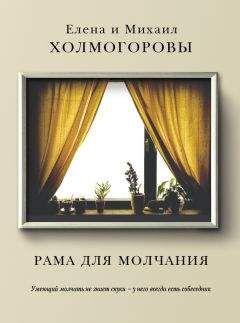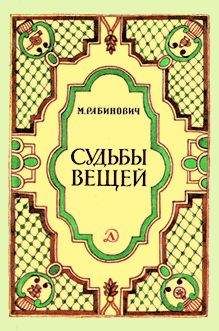Михаил Холмогоров - Второстепенная суть вещей
У Пушкина с понятиями «народ», «народность» были свои отношения. Десятки раз приходилось читать восторги по поводу последней авторской ремарки в «Борисе Годунове»: «Народ безмолвствует»,– вот, мол, прямое доказательство народности трагедии, того, каким мудрым показал Пушкин простой народ. И нет бы поднять глаза на сцену предшествующую:
Шум народный
Н а р о д
Что толковать? Боярин правду молвил. Да здравствует Димитрий, наш отец!
Мужик на амвоне
Народ, народ! в Кремль! в царские палаты! Ступай! Вязать Борисова щенка!
Н а р о д
(несется толпою)
Вязать! Топить! Да здравствует Димитрий! Да гибнет род Бориса Годунова!
Да народ ли это? Дикая, разнузданная толпа, готовая на убийство подростка, которое и произойдет в следующей сцене. А вот когда убийство невинного Феодора и его матери свершилось, толпа, в миг осознавшая, что она наделала в бездумном порыве, потрясенная соучастием в страшном преступлении, вновь стала народом, то есть совокупностью личностей, объединенных языком своих предков.
А что до народности Пушкина… Безо всяких переворотов и классовых боев он смешал в единый русский литературный язык наречия всех сословий – в его творчестве на равных правах заговорили московские просвирни и высокомерные дамы высшего света.
«К зырянам Пушкин не придет», – сказал поэт. Здесь нет пренебрежения ни к уваровскому народу, ни к народам «ныне диким». Пушкин и к русским не придет – не его это печаль. Пушкина не дожидаются. К Пушкину идут сами. А там уж как барин Александр Сергеич рассудят. Кому откроется настежь, кому – буквальным смыслом написанных слов. Зависит от усилий на пройденном пути.
Пушкину хорошо было известно то, что как большая новость подается сегодняшними политиками: столицы – Москва и Петербург – это не вся Россия. Об этом говорит двойной эпиграф ко второй главе «Евгения Онегина»:
О rus!.. / Hor.
О Русь!
Первая часть эпиграфа заимствована из Горация и переводится так: «О, деревня!..» Почему-то между латинской и русской частью хочется поставить знак равенства. Читаем дальше. Глава шестая:
Как я сказал, Зарецкий мой,
Под сень черемух и акаций
От бурь укрывшись наконец,
Живет, как истинный мудрец,
Капусту садит, как Гораций,
Разводит уток и гусей
И учит азбуке детей.
Но как-то не похоже на бретера Зарецкого, чтобы и впрямь этот «картежной шайки атаман» сажал капусту. Филологическая привычка берет свое и, устыдившись неполноты понимания, обращаешься к более знающим. «Гораций, удалившись после участия в гражданской войне в подаренное ему Меценатом имение, воспевал в своих стихах сельскую простоту жизни. „Сажать капусту“ – французская поговорка, обозначающая „вести сельскую жизнь“». Мы не только «ленивы и нелюбопытны», но, аккуратно выражаясь, и не вполне образованны. Если худо-бедно что-нибудь и скажем о Горации, то запнемся на Меценате, проявим слабую осведомленность о гражданской войне в Римской империи 40-х годов I века до н. э. и едва ли сумеем сказать, как звучит поговорка по-французски. Оказывается, не только «энциклопедию русской жизни» но и комментарии к ней Юрия Лотмана без Большой Советской Энциклопедии или Брокгауза вряд ли осилим.
А лето тем временем и впрямь пролетело. Березы уже начали желтеть, «небо осенью дышало», поэтому яркое солнце и тепло были совершенно неестественными. И пришла пора возвращаться в Москву. Въехали в иную жизнь, от которой хочется бежать, да некуда.
То есть как – некуда?
Последнее наше прибежище – вечное, неиссякающее: великая русская литература. И сколько ни кричат о гибели культуры, она уже стала нашим бытом настолько, что является порой в самом карикатурном виде. По неистребимой привычке прочитывать все, что состоит из букв, невозможно было пройти мимо столба со следующим объявлением, а прочитав, не переписать:
«Требуется Чичиков на стабильный гарантированный оклад. Просьба: Маниловых, Плюшкиных, Ноздревых и Собакевичей не обращаться. Н. В. Гоголь». Поскольку телефон имелся, незамедлительно позвонили и попросили молодую по голосу девушку пригласить к телефону Николая Васильевича.
– Вы, вероятно, ошиблись номером, – ответила она вежливо.
– Как же, вот ваше объявление: Гоголь Николай Васильевич набирает сотрудников.
Девушка хмыкнула, но тут же включилась в начатую игру:
– А что вы хотели предложить?
– Скажите, пожалуйста, а Хлестаков вам не требуется? – выложили заготовленную фразу и после небольшой заминки получили ответ уже в совершенно серьезном тоне:
– Извините, эта вакансия у нас занята.
Можно было бы продолжить разговор, произнести речь во славу деловых качеств Ивана Александровича, упомянуть его творческие заслуги (второй «Юрий Милославский»!) и широкие связи – с самим Пушкиным на дружеской ноге.
А что? Ведь Пушкин освятил своим присутствием любого Хлестакова. Для нас каждый, живший в его эпоху – современник Пушкина, и мы испытываем дрожь, архивный трепет от самого пустого письма, писанного в 20-30-е годы XIX столетия. Потом, конечно, разочарование и даже оскорбление, когда прочтешь в Тагильском архиве, находкой которого так гордился (и справедливо гордился) Ираклий Андроников, признание Андрея Карамзина в том, что он пожал руку Дантесу. Оказывается, тот по правилам ухлопал гения русской земли. Не говорим уж о толпе, возглавленной ведущими критиками, для которой шедевры Болдинской осени – лишь признак того, что некогда оголтело любимый творец «Руслана и Людмилы» «исписался».
Это бремя – современник Пушкина – самой тяжелой, непереносимой ношей легло на плечи Николая I. «В нем много от прапорщика и немного от Петра Великого». Этой фразой в дневнике от 21 мая 1834 года проницательный поэт исчерпал характер императора полностью. Мысль, двадцатым веком усвоенная из букваря: «Пушкин – великий русский поэт», – не вмещалась в царскую голову. Великим Николай полагал одного себя и примеривал к имени своему посмертную славу: «Николай Великий». Как Петр или Екатерина. Не втянись в Крымскую войну, так бы, пожалуй, оно и стало. В империи от Варшавы до Аляски тишина и видимый порядок, под чутким оком цензуры процветают искусства, парады гвардейских полков в Красном Селе демонстрируют мощь христолюбивого русского воинства и красоту строя. Чего еще надо?
Пушкин одним существованием своим нарушал картину идиллического порядка в отечестве. Веры ему не было у Николая Павловича никакой. Мир, установленный в сентябре 1826 года, заведомо непрочен. Государь вынужден был пойти на него против воли: мало хорошего сулит царствование, начатое с казней. А тут такая возможность: выпустить из клетки, как птичку в светлый праздник Благовещения, первого поэта. Нет, не на волю, конечно, пусть по комнате полетает, авось привыкнет, ручным станет. На все прошения поэта о выезде за границу следовал непременный отказ. Кстати, сам Николай первым поэтом Пушкина не считал, тут он просто доверился авторитетному мнению Василия Андреевича Жуковского.
Поэт мешал царствовать спокойно. Царь даже сам не мог понять, каким образом, почему…
Пылкие пушкинисты в смерти Пушкина обвиняют Николая, будто он стоял за интригой. Едва ли это так: ведь ноябрьскую дуэль император расстроил. А вот в январе – не захотел вмешиваться. Слишком тяжела ноша – августейший современник Пушкина.
Но у нас, потомков, свои заботы. Нам надо зиму пережить, о ней никак не скажешь: «Мелькнет – и нет!», почему-то весной не вздыхают: «Зима пролетела», она тянется, развлекая, правда, своими капризами – то мороз за двадцать, а то оттепель и лужи кругом. Опять-таки и город берет над нами власть – деловые и не очень встречи, звонки, новости, курс доллара… И все чаще ловишь себя на том, что считаешь дни до таянья снегов и переезда в деревню, где ждет недочитанный Пушкин. Почему Пушкин всегда недочитанный?
О rus!.. О Русь!
М. Холмогоров. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ВОДУ
Нога певца Средней России Константина Паустовского не ступала на тропу вдоль крутого берега Дёржи. А жаль – места у нас таковы, что перо его не удержалось бы в покое. Но тем человек и отличен от Бога, что не вездесущ. Хотя очень может быть, что душа его, освободившаяся от телесного плена, витает над моей головой. Я же думаю о нем, вижу, как он щурит глаза, вглядываясь в даль, распростертую за Волгу, могу вообразить его маленькую фигурку, как съежилась она над удочкой в самом устье Дёржи, где хорошо берет подлещик. И даже завидую ему – у меня всего и улову два-три окунька с детскую ладошку. Нет, определенно душа его здесь, где я ее поместил.
Книг из собрания сочинений брать с собою я не стал, так что тексты, писанные рукой Константина Георгиевича, не соблазнят своим сладостным ритмом – мое перо беспризорно и может позволить себе вытанцовывать на листе все, что ему одному угодно, соблюдая правила правописания и стилистики и руководствуясь здравым смыслом. Постмодернизировать моему перу неугодно. Староват я для таких игр. Нет, не староват, тут что-то другое. Вот Валентин Катаев – у самого гробового входа вдруг затеял шутки с мовизмом. Видно, отмаливал столь экзотическим манером грехи молодого мерзавца, того самого, который поучал Мандельштама: «Правда, по-гречески – мрия».