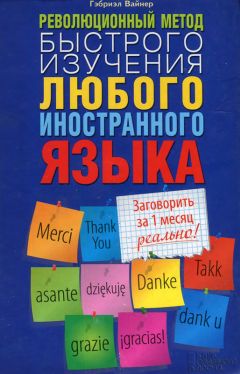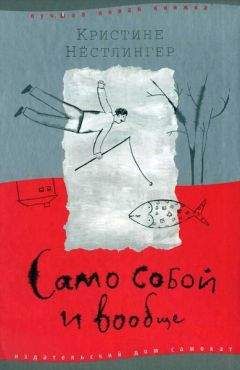Константин Смелый - Кругом слоны, Миша
Миша разглядывал пуговицу на жилетке Бельского. Пуговица сверкала на солнце. Казалось, вот-вот начнёт плавиться.
— У меня никогда не было аспирантки по имени Вера Кукушкина, — разъяснил Бельский, снова сплетая руки. — Могу поручиться, что на философском факультете вообще никогда не было аспирантки с таким именем. Среди студенток — да, попадались на факультете Кукушкины, хотя ни одной Веры не припомню среди них. Это, учтите, с шестьдесят седьмого года. Вот разве на востоковедении — там, по-моему, училась Вера Кукушкина в конце семидесятых…
Половина Мишиного лица, обращённая к солнцу, раскалилась и потела.
— Что же вам ещё сказать? — большие пальцы Бельского крутились всё быстрей. — Трудная проблема сознания…Выражение такое в англоязычной литературе появилось, если память мне не изменяет, то ли в девяносто четвёртом году, то ли в девяносто пятом. К нам только-только начинает просачиваться. Если кто и пишет о сознании в этом ключе, то не в Петербурге. Я, во всяком случае, про такие кандидатские по философии не слышал и уж точно их не вёл. Алабердов у нас в Петербурге сознанием вроде бы занимается, но это на факультете психологии… — Бельский помолчал, как будто споткнувшись о внезапную мысль. — Да, на факультете психологии. Мне очень жаль, Миша. Но вас кто-то разыграл. Примерно как вы меня дурачили своей квалитативной зубной болью, — Бельский расцепил руки и потянулся за чёрным футляром с замшевой тряпочкой. — Впрочем, извините. Сравнение здесь неуместно, — он снял очки. — Вы меня дурачили совершенно безобидно. С понятной практической целью. Вас дурачили изощрённо, долго и, насколько я понимаю, неизвестно зачем. Прас… Эээ… — Бельский поспешно закряхтел. — Мне очень жаль. Очень, очень жаль.
Замшевая тряпочка снова надраивала толстые стёкла. Беспомощные глаза снова жались под седыми бровями.
— Вы врёте, — просипел Миша. Кашлянув, повторил обычным голосом: — Вы врёте. Я не знаю, где именно вы врёте, но вы точно врёте.
Бельский нацепил очки. Одна дужка не попала за ухо. Он заправил её трясущейся рукой.
— Напрасно вы так, Миша. Зачем я вам буду врать? — Бельский схватился за пустую чашку. Я рад вам помочь, насколько это в моих силах, — он зажал чашку в ладонях. — Я после вашего звонка развернул натуральное следствие на факультете. Кто же, думаю, подшутил над молодым человеком из Лундского университета? Как кого встречу, так сразу в сторонку — и пересказываю наш разговор. Сверлю глазами, как Порфирий Петрович Раскольникова: не выдаст ли себя чем? Так был заинтригован…
Миша согнулся влево и чуть назад, пытаясь уклониться от солнца. Безуспешно. Солнце было везде.
— Почему вы мне по телефону — почему сразу не сказали? Что это из книжки? Что нет никакой Веры Кукушкиной?
— Ну, кто же мог предположить, что у вас не шутка, а целая драма… — Бельский отвёл взгляд, впервые с начала разговора. — К тому же, вы забываете, что представились философом. Вы просили совета. Мне разве в голову могло прийти, что вы дантист в овечьей шкуре. И что за Верой Кукушкиной такое водится — что она так может обойтись с живым человеком — такое разве кто мог предугадать…
— То есть существует всё-таки? — взвизгнул Миша. — Вера Кукушкина — существует?
— Миша, успокойтесь, ради всего святого, — Бельский вжался в спинку кресла. Его голос срывался. — В известном смысле — ну, разумеется, она существует. Иначе бы мы с вами о ней не разговаривали, согласитесь. Несомненно, есть героиня моего учебника. Несомненно, была женщина, которая присвоила имя моего персонажа и под этим именем…
— Кто. Эта. Женщина, — оборвал его Миша. После чая, на солнце, в просиженном кресле, в одном журнальном столике от батареи неуправляемого отопления ему страшно хотелось пить. — Не морочьте мне голову. Скажите просто, кто эта женщина. Без всякой философии. Я сразу же уйду.
Бельский отпустил чашку, чтобы развести руками.
— Я не знаю, Миша. Я не знаю, кто была эта женщина. Честное слово старого философа.
Миша уткнул подбородок в грудь. Зажмурился. Прикрыл рукой опалённую сторону лица. Он думал, что заплачет, но, пожалуй, ошибся.
— Миша?
— Пииииздец, — простонал Миша.
В следующее мгновение он рванулся прочь: от солнца, от Бельского, от жажды, от известного смысла, в котором существовала Вера. Он рванулся из кресла, забыв про учебник и чашку в блюдце.
Он помнит, как чашка разлетелась вдребезги возле кожаных шлёпанцев Бельского. Он также помнит, как разбилось блюдце, потому что блюдце должно было разбиться, и тот факт, что оно уцелело, попав на шлёпанцы, едва ли имеет значение. Иногда ему кажется, что он помнит и синюю обложку на старом паркете — то ли слева, то ли справа от Бельского, и ему стыдно, потому что он должен был поднять её первой и обязательно взять с собой. Стыд усиливается и начинает жечься, когда Миша вспоминает, что не поднял вообще ничего, даже не извинился, даже не слушал перепуганный, жалкий голос Бельского, хотя тот верещал, как заведённый. Когда Миша уверен, что никто не смотрит, стыд заставляет его стиснуть зубы и веки, потому что вместо извинений, вместо всего, что пристало Мише из ленинградской семьи средней интеллигентности, он вытащил бумажник, выдернул купюры из среднего отделения — тысячи две или три, все свои последние рубли, точной суммы он не помнит, — и, уже разворачиваясь, швырнул в сторону Бельского.
Миша не помнит, как обувался, как справился с двумя замками и хлипкой цепочкой на входной двери, но, похоже, без помощи Бельского — тот вроде бы оставался в комнате — и всё-таки справился, потому что следующее мгновение, застрявшее в памяти, состряпано на лестнице: он бежит вниз, пропуская по две ступеньки, его рука волочится за ним по перилам и нарывается на кривую шляпку — то ли гвоздя, то ли шурупа, — которая уже много лет знакома жителям подъезда и частым гостям, но сокрыта от случайных посетителей. Он почти не чувствует боли, хотя рваная линия на ладони мгновенно заполняется красным, и он вряд ли задерживается у шляпки дольше, чем на пару секунд, но успевает разобрать и запомнить слова «таня я тебя люблю», врезанные в дерево на такую глубину, что двум слоям коричневой краски не удалось их затопить.
Следующая, заключительная сцена раздута до масштабов эпического полотна: он снова на Обводном канале, снова у моста, по которому катится Лиговский. Он разжимает окровавленную ладонь, морщась от колючей боли и всё того же солнца, он запускает руку в карман, вытаскивает ключи, нацепленные на брелок с рижской церковью, размахивается, бросает, и ключи взлетают высоко-высоко и сверкают на солнце, прежде чем шлёпнуться в середину канала, обрывисто булькнув на прощание.
Безусловно, в первые дни или даже недели он ещё хранил исходное сырьё для этой сцены. Он ещё помнил, что вообще не пошёл в сторону Лиговского. Он помнил, что пошёл к автовокзалу, где стояла машина, и там перебежал на набережную, и там достал ключи левой, невредимой рукой. Он выбросил их почти вальяжно, словно кидал монетку на память в римский фонтан. Они упали метрах в трёх от берега, и его осоловевшие глаза не видели никакого сверкания, а уши различали только грохот вонючих фур за спиной.
теперь точно три
Подростки, курившие на балконе, ушли сразу после заката. Над горизонтом с лютеранской колокольней ещё полчаса гасло небо — густо-малиновое снизу, чернильно-синее сверху, таинственно бледное между верхом и низом. Когда погасло небо, ушла пара, говорившая на тональном языке.
Вскоре после них ушла последняя семья с маленькими детьми. Ушли три женщины, которые долго о чём-то спорили, рассевшись на диванах вокруг ноутбука и кучи глянцевых брошюр. Ушла компания румяных мужиков атлетического телосложения. Появилась вечерняя молодёжь. Средний возраст публики задрожал вокруг отметки «двадцать три».
Около шести Миша спустился за второй добавкой. Потом сходил в туалет. В обоих случаях брал с собой перчатку, как и в первый раз, но боялся уже не так сильно. Час пик давно кончился, все приходящие были на виду, никакой суматохи, никакой очереди. А главное, он заметил, что устаёт. Шок выдыхался. Опухоль в памяти ещё пульсировала, ещё держала за шкирку, но уже не было сил ни фантазировать до тошноты, ни трястись всем телом. Он смирился с тем, что досидит до закрытия. Теперь досиживал, почти умиротворённо. Минуты напролёт думал о посторонних вещах. Почти не глядел в сторону спиральной лестницы, откуда ещё пару часов назад без конца выныривала женщина с неясным лицом. В сером пальто в ёлочку. С лиловыми пятачками пуговиц.
За час до закрытия он даже достал телефон. Открывая браузер, улыбался от облегчения. Ему снова было интересно, что пишут в интернете.
Но выяснить, что же там пишут, ему не дали. Средний возраст публики неожиданно подскочил года на полтора. На второй этаж поднималась Мишина жена с подносом в руках. Бывшая жена. Миша в панике посмотрел на перчатки. Он не успевал незаметно убрать их со столика. Жена ещё шла по спиральной лестнице, но уже глядела прямо на него. Между тем средний возраст продолжал расти. Стрелка подползала к отметке «тридцать». За женой поднимался владелец трёхэтажного коттеджа на берегу озера. Мелкий железнодорожный начальник Вальгрен. Миша знал, что будет дальше. Ну естественно. Ну не могли же они просто поулыбаться и помахать ручками из прекрасного далёка. Найти себе место в глубине зала. Завались же было свободных мест, одно другого дальше. Нет, нужно было рвануть прямо к его столику. Замутить сеанс дружеского общения.