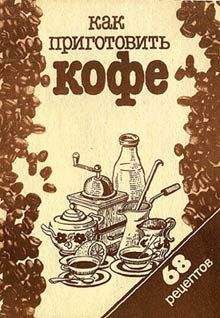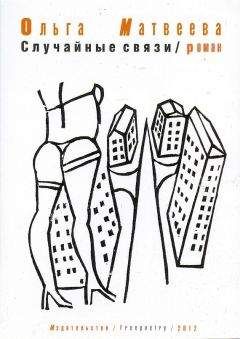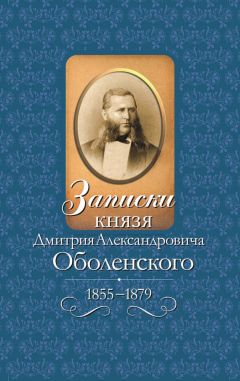Дмитрий Панченко - Записки русского бедуина
Есть места, как бы специально устроенные для людей вроде меня: небольшие города с почтенным университетом и прекрасной архитектурой. Такие, как Оксфорд, Кембридж, Гейдельберг, Тюбинген и многие другие в Германии. По архитектуре Саламанка приближается к английским университетским городам, но по природному окружению вместе с ними уступает немецким. В Констанце многочисленные университетские двери выводят сразу на природу, из многих окон открывается вид на озеро, с восточной стороны взгляд достает до альпийских хребтов. Во Фрейбурге — полчаса ходьбы, и ты среди гор и лесов Шварцвальда; если надоело ходить через город — можно подъехать на старомодном, уютном трамвае. В Кембридже, впрочем, вы тоже найдете где погулять. Там даже есть обнимающие реку луга, на которых пасутся коровы. Кембридж в месяце мае — это лучшее место на свете. Но в другие времена там дует надоедливый ветер — местные жители утверждают, что он приходит к ним с Уральских гор.
В старинных университетах вас ждут минуты волшебства. Оксфордско-кембриджские обеды с профессорами, одетыми в мантии, и предобеденной латинской молитвой достойны поэмы, а обеды в оксфордском St. John's College даже в особенности, поскольку там принято проводить послеобеденный досуг в уединенной зале, где, при свете свечей, пускают по кругу шоколад, нюхательный табак и превосходнейшую мадеру. После обеда я выразил желание пойти в библиотеку колледжа — взглянуть на ранние переводы сочинения Аристотеля «О небе». Меня провели в ту часть библиотеки, которая возникла вместе с самим St. John's — в конце XVI века. И деревянные скамьи, и книжные полки там все еще те же самые, и на одной из полок, конечно же, отыскался фолиант с нужным мне переводом на латынь. В университете Саламанки держатся более скромных традиций, но зато мне здесь показали знаменитую рукопись «Начал» Евклида.
Стены университета в Саламанке украшены необычными автографами. Когда-то ученое звание присваивали лишь тому, кто был способен совладать с разъяренным быком, и ученые мужи расписывались бычьей кровью.
Испания просторна, по ней ездишь с удовольствием. Большая часть страны занята плато. Часто видны горы; самыми красивыми были Кантабрийские, на пути в Леон.
Саламанка южнее Леона, и мой дальнейший путь был строго на юг. В какой-то момент я ощутил дыхание Африки и увидел вокруг себя саванну. Чувства мои встрепенулись — заговорила историческая память!
Как ни странно, еще далее к югу саванна сменилась чем-то более европейским. Я заметил на пустой дороге полицейских. Они, как всегда — двое, были заняты чем-то своим, но один все же бросил взгляд в мою сторону и, увидев российский номер, будто онемев, поворотом головы указал на удаляющуюся машину напарнику: «Видал?!»
В Андалузии пошли оливковые рощи. Они тянутся на многие десятки километров, разбросанные по золотистым от выгоревшей травы холмам; тени от стволов и листвы вырисовываются на склонах так, словно они вычерчены пером и тушью. Порою показываются невысокие горы — отроги Sierra Morena. Издалека они кажутся подобием гигантских дюн, покрытых неприхотливой растительностью. Я остановил машину в том месте, где дорога укрывается в нешироком ущелье, спускается к каменному мосту и перебирается через реку, чтобы снова подняться вверх. Стал бродить по окрестностям. Пусть ваше воображение дополнит картину синим небом, кучевыми облаками, прозрачным воздухом и тишиной. Столь же красивую землю я видел только в Тоскане.
Я не стал заезжать в город Херес, поскольку спешил увидеть солнце, садящееся в океан: среди древних ходили слухи, что на океанском побережье клонящийся к закату солнечный диск предстает неимоверно огромным и что море шипит, когда раскаленное светило гаснет, погружаясь в пучину. Я не склонен был доверять этим слухам, однако считал необходимым все увидеть собственными глазами. Я выбрал Кадис — один из самых древних городов на земле, основанный еще финикийцами, го-род, столетьями остававшийся единственным портом на всем Атлантическом побережье, давший многих мужей, прославленных в древности, город, откуда Колумб отправился в свое плавание, — там я должен был увидеть океанский закат.
Ограничения скорости были мне более не указ, и я вроде бы успевал, но пока я разбирался, как проехать по городу, где запарковать машину, солнце то ли зашло, то ли еще садилось, но там, где горизонт был закрыт какими-то сооружениями. Я оценил прелесть набережной Кадиса, достоинство его соборов, но чувствовал себя как человек, опоздавший на свидание.
Я не стал ночевать в Кадисе и глухой ночью приехал в тишайшую Чиклану. В глухом переулке я нашел дешевый отель со скромной комнатой. Там стояло две кровати, и каждая оказалась с каким-то испанским секретом. Стоило лечь, как обуревали желания, по обстоятельствам места и времени совершенно невыполнимые.
Следующий день мне возместил все неудачи вечера. Уже утром я был в Тарифе, где меня приветствовал похожий на Ивана-царевича SANCHO IV EL BRAVO, у ног которого расположился, правда, не волк, а косматый лев; оба, как объясняла надпись, были увековечены в 1992 году по случаю семисотлетия.
Считанные сотни метров — и я в самой южной точке Европы, у Столбов Геракла! Удостоверить мой подвиг было некому. Что ж! По крайней мере, моя машина заслужила снимок на память. Я поставил ее у края пристани, где она прекрасно смотрелась на фоне деревянного парапета, прибрежных валунов, серой воды, принявшей цвет затянутого облаками неба, и смутно видневшегося африканского берега.
От Тарифы дорога сворачивает на северо-восток, вид на пролив по большей части закрыт горами. Но я знал, что Испании принадлежит участок суши на африканском берегу. Оставив машину в Альхесирасе, я взошел на корабль, отправляющийся в Сеуту.
Альхесирас лежит напротив скалистого полуострова, на котором располагается Гибралтар; вместе они окаймляют глубокую бухту. Плыть до Сеуты, чуть наискось через пролив, километров пятнадцать-двадцать. Пасмурное утро сменилось дружелюбной погодой, видно было хорошо и далеко.
Древние достоверно описали пролив. Так что захватывающая новизна — я плыл в Африку! — соединилась с радостью узнавания. Я видел Кальпу и Абилу — две доминанты, на европейском и африканском берегу. Гибралтарская скала внушительна, но африканский берег еще выразительней. За спускающимися к морю отрогами гор, поросших редким лесом, возвышается необычной формы скала. Она находится на значительном удалении от Сеуты, посреди пустынного берега, и воспринимается как межевой столб совершенно особого мира.
Я не в первый раз стоял на африканской земле, причем в предыдущий раз тоже явился по морю, переплыв через Суэцкий канал. Но тогда я сначала прилетел в Израиль на самолете, сел в Иерусалиме на автобус, да и Суэцкий канал — недавний и рукотворный. Теперь же весь путь от дома я вез себя сам, не считая последних километров на открытой палубе.
В Сеуте сразу стало понятно, что паспортных проверок на дальнейшем пути в Марокко не предвидится. И это было огромным соблазном — арабский Восток, пустыня, верблюды. Меня все же остановило здравомысленное рассуждение: я мечтал добраться до Геракловых столбов, боги даровали мне даже большее, пора вернуться назад.
Хотя, казалось бы, я не покидал территорию Испании, при посадке на корабль, плывущий назад в Альхесирас, меня спросили и про оружие, и про наркотики, и чувствовалось, что к шуткам здесь не расположены. Не помню, что за люди плыли со мной в ту и другую сторону. В проливе было очень мало кораблей, а те, что были видны, походили на баржи.
Вечер я провел в Альгамбре. По дороге на Гранаду особенно запомнились обширные склоны — как бы предместья скалистых гор. Местами они заняты виноградниками и островками леса, местами — пожелтевшей травой и пасущимися стадами.
Альгамбру пронизывает дух созерцательности и гедонизма. Вода, сады и залы, подобные ларцам, вырезанным из слоновой кости. Если арки Кордовской мечети — эхо и преображение искусства Средиземноморья, архитектурной традиции классической древности, то в Альгамбре не думаешь о корнях и истоках — стиль отличает законченность. В искусстве интерьера трудно найти что-либо более совершенное.
Кордовскую мечеть и сам город я видел днем позже. Древность там великолепна во всех проявлениях — начиная от римского моста через Гвадалквивир вплоть до местного археологического музея и современного памятника Сенеке. Для колонн и арок Кордовской мечети найден идеальный рисунок, их можно по-вторять до бесконечности.
По соседству с городом в Madinat al-Zahra можно познакомиться с предметами быта времен Кордовского халифата. Любая бронзовая лампа подошла бы Аладдину. Но ни посуда, ни монеты, представленные там, не отличаются подлинным изяществом.
Как бы то ни было с утварью, после посещения Альгамбры и Кордовской мечети я не мог отделаться от вопроса: что стало с великой цивилизацией? Когда Европа прозябала или только приходила в себя, исламская цивилизация достигла высочайшего расцвета. Один из ее великих умов входит в число моих любимых писателей — это Аль-Бируни, которого я читаю с восхищением, даже когда перестаю понимать, в котором угадывается удивительно благородная личность и подлинный, глубочайший ум, рядом с которым Клавдий Птолемей кажется провинциальным профессором. Куда же все это делось? Волны кочевников? Тимур и его команда? Казалось бы — было время воспрянуть.