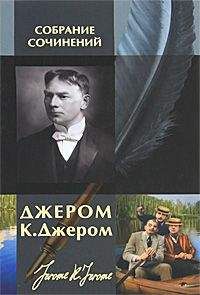Грация Верасани - Оглянись назад, детка!
Полшю, как-то осенним полднем мы с ней пошли в магазин; домой возвращались пешком под холодным, тонким дождем и таким сильным ветром, что он буквально прижимал нас к земле. Ее черные чулки были забрызганы грязью, она смеялась, плечи слегка вздрагивали, а я говорила: «Мама, я не поспеваю за тобой, у тебя слишком длинные ноги».
Терри, барменша, опустила жалюзи в баре и села за мой столик, прихватив с собой полбутыли вина. Со мной тоже часто такое случалось: когда я напивалась, то рассказывала о главных перипетиях своей жизни первому попавшемуся собеседнику.
— Кто не думал хотя бы раз в жизни покончить с собой? Знаете, работая в баре, я столько всего наслышалась. Есть люди, от которых ты просто этого не ожидаешь: улыбаются, такие спокойные…
Она стукнула по столику рукой с кроваво-красными ногтями.
— Двадцать лет с алкоголиком! Двадцать лет! Если сейчас в бар войдет мальчишка, курящий косяк, я его прямиком отведу к карабинерам.
— Вы о своем муже?
— Да, о муже. Если бы вы знали, что я пережила…
Она начала рассказывать о неверности, пьянках, долгах, мести.
А я думала совсем о другом, о том дне на море, несколько лет назад, когда из воды на берег вытащили утонувшего двенадцатилетнего мальчика из Варезе, и работник купальни делал ему искусственное дыхание рот в рот на глазах у матери, которая стояла с халатом в руках.
— Именно там я поняла, что существует большая разница между засасывающим водоворотом воды и врезавшимся в ворота автомобилем.
Должно быть, я говорила вслух. Терри — в раздумье, как поступить: то ли звонить по Фиолетовому телефону доверия, то ли просто предложить мне покинуть бар, — схватила бутыль с вином, подняла жалюзи и впустила клиента.
Я вынула из сумки блокнот. «Нервный срыв. Дж. готовит мне еду, чистит ванную три раза в неделю. Я провожу руками прямо по нервам. Я читаю тебя, Ада. Я слушаю, как музыку, буквы, слова. Это звучание твоей боли. Но я тебя не прощу, вас не прощу: обеих».
Я вышла из бара и поплелась к машине. На сотовом телефоне был непринятый звонок от Гайи, таким образом, я поехала на улицу Сарагоцца, надеясь, что в дороге меня не остановят полицейские для проверки на алкоголь.
Стоило мне нажать на клаксон, как тут же появилась Гайа, открыла электрические ворота и нырнула ко мне в машину.
— Где твоя мать?
— Она пошла в ресторан ужинать, отгадай с кем…
— Мне жаль, но рано или поздно мне придется разговаривать с твоим отцом.
— Знаю. Через неделю он возвращается из Лугано.
— Ты ему ничего не говорила?
Она сидела, устремив взгляд перед собой.
— Я не шпионю. У тебя есть сигарета? — спросила она — Мне надо сказать тебе одну вещь.
Я протянула ей сигарету, и после третьей попытки моя наполовину пустая зажигалка «Бик» выдала маленький огонек.
— В чем дело?
Она беспокойно теребила свой ноготь.
— Вчера вечером мне звонил Тим.
Это меня удивило.
— Он пригласил меня в бар «Линк» выпить пива .
— И ты пошла?
Она скривила губы.
— Да.
— Ну и что?
— Не думаю, что он позвонит мне еще раз.
— Ну, это не известно.
— Там была его подруга.
— Виола?
— Она очень хорошенькая, правда?
— Ты тоже хорошенькая.
Она отрицательно покачала головой и схватила губами сигарету, как новорожденный ребенок хватает сосок.
— Он мне сказал, что чувствует себя лишним… что он и Фэдэ являются членами параллельного общества…
Я подумала о сердечном друге Тима, об этом мозговитом Фэдэ, который всегда потел и никогда не мылся.
— Еще он мне говорил об Индии, где он был в прошлом году. Никто об этом не знает, но он хочет туда вернуться…
Мне это наскучило.
— Гайа, — сказала я, — лучше, если ты сразу узнаешь об этом Когда Тим накурится, то говорит кучу всякой чепухи, чтобы покрасоваться перед девушками. В Индии он никогда не был, и даже в Австралии, чтоб ты знала, если он тебе и об этом сказал.
Горничная из дома Комолли громко позвала собаку-боксера по кличке Адамю. Гайа посмотрела в окно.
— Я верю всему, — печально произнесла она и открыла дверцу. — Он спросил меня, была ли я в Генуе во время встречи Большой Восьмерки, я ответила, что нет. Мне кажется, я его разочаровала.
Она выскользнула из машины и пошла к воротам, ее догнала собака и лизнула руку.
Я поставила машину у дома и вышла. Пока я всовывала ключ в замочную скважину стеклянной двери, в ней показалось отражение приближающегося прихрамывающего человека. При тусклом освещении щита с квартирными звонками я узнала Джордано Латтиче.
— Я уже час жду вас, даже на сотовый звонил…
— Я очень устала. Что вам нужно?
— Могли бы выразить мне соболезнование, раз я здесь.
— Вы пришли сюда рассказать о своем страдании?
Он подавил смех.
— Я не из тех, кто делает это достоянием общества.
— Вы выпили, Латтиче?
— Нет, я трезв, чертовски трезв, в отличие от вас, синьора Кантини.
Он прислонился к стене и слегка согнул колени.
— Что вы сказали в полиции?
— Знаете, — я порылась в сумке в поисках сигарет и зажигалки, — вам не стоило приходить сюда.
— Да, знаю. Я всегда нахожусь не там, где надо. Например, не был дома у своей жены, хотя мне надо было бы там быть.
— Короче, чего вы хотите? Вы пришли, чтобы наконец заплатить мне?
— Уверен, что на тех фотографиях есть тот, кто ее убил, — ответил он, глядя на меня в упор.
— Фотографии у полицейских. Они об этом позаботятся, Латтиче. Или вы решили изобразить из себя доморощенного Чарльза Бронсона?
— Все это время я только и делал, что воображал, как она трахается с Тицио и Кайо… Вы просто не представляете, что это за пытка думать об этом.
Он резко сорвал с головы шерстяную шапку. Увидев его покрашенные в смехотворный горчичный цвет волосы, я вытаращила глаза. Сколько же времени он ходит в таком виде?
— Я даже думал покончить с жизнью, но я — католик.
Прекрасное оправдание.
— Я ее любил. — Он посмотрел на меня. — Вам не понять…
Возможно, я бы спросила, почему это его нельзя понять, но голова моя кружилась, и я мечтала лишь о том, чтобы он поскорее оставил меня в покое.
— Виноват убийца, а не судьба и тем более болезнь. Искать следует мужчину, который сначала ее изнасиловал, а потом… — произнес он и как ребенок заплакал.
— Латтиче, — я положила руку ему на плечо, — скажите, что я могу для вас делать? У вас есть хороший адвокат?
Он пожал плечами и, всхлипывая, исчез в темноте ночи.
Я вошла в дом, выбросила из головы Латтиче вместе с его невзгодами и плюхнулась на кровать.
Письма Ады изменили квартиру: они словно лоскутки усеяли покрывало и спали со мной.
Я спрашивала себя, ждала ли она ребенка и если да, то кто отец — Джулио или А.? Почему в этих письмах нигде не упоминалась ее подруга Анна, и как мне ее найти, если у меня нет ни ее фамилии, ни вообще каких-либо сведений, чтобы добраться до нее.
Даже если я прямо завтра начну доставать телефонными звонками Альдо Чинелли и Джулио Манфредини, они ничего ценного не скажут. У меня такое чувство, что им известно не больше, чем мне. Что касается отца, то из него я уже ничего не вытяну.
Мой отец. Мы остались только вдвоем и пьем, чтобы забыть.
Говорят, что забыть — значит потерпеть поражение Или прав Джильоло, который утверждает, что опьянение — другая сторона ясности сознания?
Мне было девять лет, когда я пошла в больницу навестить бабушку Лину. Она лежала в постели: кожа да кости, почти лысая, такая не похожая на себя. Она хотела дотронуться до меня, но я отодвинулась.
— Я ужасна, да? — сказала она, закрыв лицо пожелтевшими, сморщенными руками. Медики сказали, что никакой надежды нет, и бабушка Лина желала лишь одного — умереть у себя дома.
Мою мать обуревал разумный эгоизм:
— В больнице Сант-Орсола ее лечат, за ней смотрят… Короче, спасут. Надежда — это инстинкт, — говорила она нам — А медицина — наука не точная.
Бабушка была скорее мертва, чем жива, никто в этом не сомневался, даже я, ребенок. Она умерла на следующий день после моего посе щения в той безымянной больничной комнате, как собака. Мама после этого мучилась угрызениями совести.
— Мне следовало увезти ее домой! — кричала она. — Почему я ее там оставила? Она должна была умереть в своей постели, безмятежно!
Чувство вины. Самая современная болезнь, существующая сегодня. Достаточно иметь каплю собственного «я», чтобы упиваться этим. Не туда ли, в это дерьмо, меня и моего отца кинула жизнь?
«Радуйся умеренно, страдай с достоинством», — говорили античные классики. Что я изучала в школе? Что мне рассказывали на уроках катехизиса? Боль — вина. Страдай? Это значит, ты удалился от Бога. К черту все это. Боль невинна, боль — часть жизни.