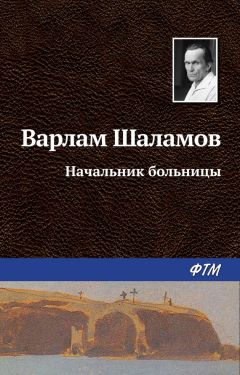Владимир Курносенко - Милый дедушка
Я глядел на бледные, торжественные лица, делавшиеся всегда особенно похожими между собой на этой песне, и представлял себе человека, которому «хорошо вот здесь остановиться и, глядя вдаль, подумать, помолчать…», и человек тот был не то мой родной дедушка Алексей Иваныч, который умер, не то я сам, еще пока живой.
В завершение пели одно и то же: «Рос на опушке рощи клен».
По сути это была рассказанная песней сентиментальная история двух деревьев — березки и клена. О том, как в летний зной влюбленный мужественный клен укрывал березку своей листвой и как над ними «пели до звезды всю ночь весе-, всю ночь веселые дрозды». И когда «на рощу пал туман, поднялся грозный ураган», то, «березку белую-ю-у лю-ю-ю-у-бя, клен принял ви-, клен принял ви-хри на-а-а се-бя-а…». Я был маленький, и от благородства клена в этом месте у меня подступал к горлу мокрый ком. Березкой мне представлялась тетя Галя, а стройным и молчаливым кленом дядя Аким. На него, поющего, поэтому я старался не смотреть. Песня кончалась хорошо, вечностью. «Растет-цветет кудрявый клен, — подводился в ней итог. — Одной березке вере-е-ен он, и лишь для клена-а ка-а-аждый го-о-од березка стро-, березка стройная цве-тет…»
Собирались с годами реже. Половина родни жила на Украине, а другая здесь, на Южном Урале. Дорога старшим давалась все труднее. Чаще приезжали хоронить. Дедушку Алексея Ивановича, бабушку, мужа тети Марусиного — дядю Колю, мужа тети Лины — любимого моего дядю Костю. Собирались и по иным тоже поводам; на свадьбы, к примеру. Однако на них прибывали уже не все, а те, кто помоложе, кто жил поближе, кто в означенное время не болел и пребывал в соответствующем настроении. Песня про клен на свадьбах звучала пожиже, но — звучала. Дядя Аким приезжал не чаще и не реже других. Про Кирика он не рассказывал, но, по окольным слухам, Кирик рос балованным, и выходило, конечно, что виновата в том тетя Галя. На фотографиях он выглядел скуластеньким, нескладным, совсем не похожим на польского шляхтича, рисовавшегося мне по «Тарасу Бульбе».
…Собирались реже, но вкус родства, его какую-то незаменимость мы, младшие, успели-таки расчувствовать и отхлебнуть. Тети Линин сын Игорь, самый из нас, двоюродных, старший, одно время всамделишно горел мыслью организовать специальный Сбор Второго Поколения. Игорь планировал выступить на нем с речью. В речи он сказал бы про «эту штуку» и что мы — младшее поколение — обязаны беречь ее и «нести сквозь годы». Игорь был единственным из нас, кто при необходимости мог подменить в пении кого-то из Братьев, он был к ним ближе всех. К тому же у него как раз народился собственный сын Алешка. Игорь искренне хотел Сбора. Он чувствовал ответственность за продолжение нашего рода. Мне же, шестнадцатилетнему в ту пору, не верилось, что из его затеи сможет что-то получиться. Кроме того, по вопросу «этой штуки» я вообще держался иного мнения. «Ну, хорошо, — рассуждал я. — Любовь, бескорыстие, это все так, но с остальными-то людьми как же? С теми, кто не родственник? Им-то от нас, что же, любви-бескорыстия не нужно?» Но Игорь не желал понимать красивых сиих отвлеченностей. Ему на самом деле хотелось всех собрать. Ну да. И, разумеется, ничего из этого не получилось. Слишком далеко мы, двоюродные, поуходили уже от своего центра. У нас был не один-единственный общий отец, а у каждого целых два дедушки — через маму и через папу. Второй круг вокруг Алексея Иваныча выходил по сути пунктирным. Мы могли помнить, а могли и забывать про центр. Между нами стояло уже это самое «двою-». По спокойном размышлении становилось очевидно: еще одно-два поколения — и наш родовой ручеек незаметно вольется в океан человечества, растворившись в нем без следа.
Мне было шестнадцать лет, плоть моя бунтовала, и, как все юные эгоисты, я жаждал «понимания». Раздумывая о природе зла, о его, быть может, необходимости на свете (тут мне представлялись всегда камешки в зобу у курицы, которыми перетираются «твердые зерна жизни» на пользу для нее, для курицы, и на добро), я мечтал о деле Альберта Швейцера и порою думал, что все люди могут и должны жить как он. Я чуть не до слез волновался поступком князя Мышкина, как он НЕ ОТВЕЧАЕТ на пощечину Гане Иволгину, а, прижимая руку к ударенной щеке, только лишь говорит своему обидчику: «О, как вы будете раскаиваться в вашем поступке!» Про себя мне было уже известно: мне-то так не смочь. Однако догадка, что так прекраснее и выше, гораздо выше распространенного и уважаемого всеми «зуб за зуб», уже зарождалась во мне.
Но я сомневался. Меня, повторяю, мучили соблазны.
Опять и опять я РАЗРЕШАЛ в себе существование зла.
Люди — корабли, придумывал я, они плывут по морю жизни, погруженные по самую ватерлинию во зло, но зато верхняя надводная их половина остается свободной и чистой. Зло, выходило, как бы необходимость. Отсюда было уже всего полшага до знаменитой формулы «все так делают», а этих «всех» тоже можно было выбрать или представить по желанию. Дело известное.
И вот так — от одного к другому — я и жил.
Однажды, возвращаясь с очередной своей прогулки, на углу нашего дома я увидел парня, а вернее — молодого джентльмена, красивого собою и великолепно, непривычно для наших мест одетого. Я приближался медленно, разглядывая его и решая, откуда б такой взялся и к кому из соседей он мог бы, допустим, приехать. На третьем этаже, под нами, жило, к примеру, многодетное семейство слепого Жабрина. У себя в артели слепых Жабрин работал небольшим каким-то начальником и один кормил неработающую жену и все большое свое семейство. Жена Жабрина баба была вздорная, пьющая, как и он сам, и чуть не через два дня на третий под нами гремели скандалы: слепой, гневаясь, бросал в жену предметы. И еще, что внушало мне порою чувство безысходности, — от Жабриных к нам наверх неостановимо ползли клопы, как ни боролась с ними моя мама. Первое, самое сильное, помню, что поразило меня в наряде незнакомца на углу, были его бархатные туфли. Маленькие, изящные и остроносые — они были по самой последней-распоследней тогдашней моде, они, быть может, даже маленько забегали ей наперед. В таких туфлях, показалось мне, мог бы прогуливаться по Фонтанке сам Александр Сергеевич Пушкин. Не меньше. Да и в позе молодого джентльмена было тоже нечто для меня неотразимое, небрежно-изысканное, нечто не заботящееся о производимом впечатлении, а потому отдающее чем-то природным, независимым. В смуглом же лице молодого человека — я все еще шел к нему и смотрел — тоже словно мелькнуло выражение печали не печали, тоски не тоски, а как бы тихой, сосредоточенно-тихой о чем-то заботы. О чем-то, возможно, не совсем другим понятном, но самому ему очень-очень важном. И вместе выражение содержало кроткую, или, вернее, смирившуюся привычку эту свою заботу скрывать.
Я шел мимо прекрасного незнакомца, я изо всех сил старался не поглядеть в его сторону. Мне не хотелось выказывать своей симпатии. Тем более зависти.
И в самый момент минования возле моего — о, чудо! — уха раздался голос. Погрезилось мне или вправду так было, но только в нем, в голосе этом, были, входили в его состав две-три нотки, которые звучали в голосах и у дяди Вити, и у дяди Акима, и у моего отца, и у дяди Лени; которые жили в голосах всех взрослых мужчин нашего, от Алексея Ивановича, рода; которые в подростково-сиплом варианте прорезались в аккурат к тому времени и у меня.
— Женя? — было произнесено. Ну да — мое, мое имя.
Я обернулся, опасаясь ослышаться. Я знал, что я не ослышался, но я боялся на всякий случай, чтобы не сглазить.
— Я Кирилл, — сказал незнакомец, и в голосе его взлетели и лопнули воздушные шары тех самых знакомых ноток. — Ты не узнаешь меня, Женя?
Оба раза «Женя» Кирик — а это был он — произнес так, словно всю жизнь он помнил и любил мое имя и вот получил возможность свое отношение как-то обозначить. Он произнес его с нежностью, с какою взрослые старшие братья рассказывают чужим людям что-нибудь смешное про своих младших. С тою немного насмешливой самой к себе нежностью. «Кирик», знал я, образовано от «Кирилла». Так давным-давно придумала еще тетя Галя. Но в тот-то миг «Кирик» и «Кирилл» соединились во мне не сразу. «Кирилл» прозвучало совсем как-то свежо, как-то словно в стороне от нахоженных магистральных путей моего сознания и памяти. Я пробежал, если можно так выразиться, лестницу узнавания ступенька за ступенькой (кто это? кто это? кто?), один за другим отбрасывая варианты-тупики. Отбросив все, я понял: это мой двоюродный брат Кирик, потому что измененно «Кирилл» это и есть «Кирик», он приехал с Украины и ждет меня здесь, на углу, с коричневым кожаным чемоданчиком в руке. Ибо — и право же, жаль, что это так легко объяснилось — время еще рабочее, а я единственный, на кого можно сейчас рассчитывать, чтобы попасть к нам в дом.
Мы двинулись рядом. Мы шли, разговаривая.
Запросто, без всякой малейшей натуги. И на площадке, помню, третьего этажа, как раз напротив двери Жабриных, Кирик спросил меня, где у нас находится донорский пункт, чтобы можно было сдать кровь.