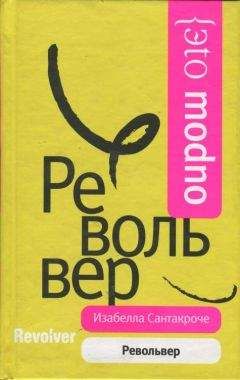Владимир Краковский - Один над нами рок
Но Дантес на провокацию не поддался, сказал: все равно плохо, радиация под землей не останется, просочится в океан, будем есть рыбу, светящуюся, как голова младенца Иисуса…
Тогда мы перешли ко второй части испытания. “Подумаешь, немного поболеем,- сказали те, кому было положено это сказать.- Гораздо опаснее для человечества то, что творят итальянцы: правительства меняют по три раза на дню, Джордано Бруно сожгли, а с сицилийской мафией справиться не могут, на это у них кишка тонка. А между тем весь мир от этой мафии стонет…”
Дантес принял вид отчужденный. Его кабинет был набит нами битком, но он как-то умудрялся смотреть мимо всех.
“Эта нация вообще изнеженная и хилая,- продолжали провокацию те, кому было назначено ее продолжать.- В войну наши как лупанут могучим кулаком пехоты, враг бежит. Но немцы со второго удара могучего кулака задавали деру, а макаронники – с первого.
Хлипкие на редкость. И трусы, каких мало: в крещенские морозы мочились, не расстегивая ширинку, боялись отморозить…”
У Дантеса желваки заходили на скулах еще при словах: эта нация.
Услышав: макаронники, он побагровел. Когда же прозвучали обвинения в боязни отморозить член, он уже не смог себя сдержать. Боже, как он стал орать! И что! Русские-де и лежебоки, и дикари, они еще беспробудно дрыхли, когда итальянцы, являясь древними римлянами, всю Европу держали в кулаке… Еще позавчера он отказывался хулить русских, сегодня же буквально втаптывал их в грязь. “Вы еще подтираться не научились,- орал,- а у нас уже был самый лучший в мире цирк! Мы и сейчас могли б кого угодно свернуть в бараний рог, да не хотим, потому что стали в высшей степени интеллигентными – настолько, что простой рабочий у нас может запросто затянуть в троллейбусе какую-нибудь арию Фигаро, с которой у вас не каждый заслуженный артист справляется.
Особенно одно там место: ля-ля-ля, ля-а, ля-а-а… В этом последнем “а-а” первое “а” такое высокое, что, спорим, ни один из вас не возьмет, а я, хотите, возьму, так что не судите об итальянцах свысока, вы перед ними коротышки-недоростки…”
Нам очень обидно было слушать эту нахальную речь, но вместе с тем и радостно: ведь сомнений теперь не оставалось, Дантес – итальянец, когда Пушкин узнает, он обязательно поклянется больше в него не стрелять, а значит – выйдет на свободу, придет в цех, включит свой станок… Вот что главное!
Поэтому мы не стали бить Дантеса за оскорбление нашей национальной гордости и молча покинули его кабинет, сказав только от дверей: “А мы думали, ты интернационалист”. “Я и есть интернационалист! – крикнул нам вслед Дантес.- Слава Богу, из самопала в вас не стрелял!”
Несмотря на очень позднее время, мы побежали обратно в психушку, вбежали в ее клубящийся мраком двор,- Пушкин смотрел на нас сверху вниз из освещенного окна второго этажа. “Все о’кей! – закричали мы ему. – Дантес – итальянец! И не абы какой – он итальянский националист!” “Ей-богу?” – спросил Пушкин, припадая к решетке. “Ей-богу, ей-богу!” – заверили мы его и принялись радостно танцевать, распевая во все горло нашу любимую неаполитанскую песню: “Но все ж, другого любя, знай, что твой образ вечно сияет мне у изголовья, знай, что душой стремлюсь к былому раю, что я сгораю горько-ою любо-вью!!!”
На последних словах мы стали радостно обниматься и хлопать друг друга по плечу, соревнуясь, кто сильней ударит. Крики восторга и боли смешались.
Пушкин аплодировал нам из зарешеченного окна.
На пение и вопли вышел из психушки главврач. Он сказал: “Не хамствуйте. Вы, конечно, здесь свои люди, но и своим не все позволено. Уже за полночь”.
Он провел нас внутрь здания, в палату богов и героев, где продолжал занимать койку, по дороге сообщая, что на днях покупает себе квартиру.
“Фактически я ее уже купил,- сообщил он.- Вы спросите: на какие шиши? В ответ на этот вопрос я, как порядочный человек, должен был бы разрыдаться. Да, я продал! Ей! Череп! При этом я, как последний идиот, думал, что совершаю выгодную сделку: она отдала за него половину моих денег. Мне даже казалось, что я обдурил ее: подумаешь, череп! Но негодяйка тут же продала его, получив вдесятеро! Представьте, за границу! Она теперь Ротшильд. Скоро в стране не останется ни одной ценной вещи, иностранцы скупают все лучшее. Череп приобретен каким-то европейским музеем, где и станет экспонироваться под названием: “Череп большевика”. Рядом с ним будет висеть в рамочке заключение экспертов. В том духе, что исключается вставление пули в лоб черепа каким-нибудь умельцем. Экспертизой установлено, что пуля выпущена из винтовки модели Мосина и подлетела ко лбу живого человека примерно в конце второго десятилетия двадцатого века со скоростью шестьсот
– шестьсот пятьдесят метров в секунду и застряла в кости еще несколько десятилетий после этого прожившего человека…”
Когда мы вошли в кабинет, главврач сел за стол и строгим голосом сказал: “Слушаю вас”.
Суть дела он понял не сразу. Ему десять раз было все изложено, но он только моргал вытаращенными глазами и бормотал: “Нельзя ли покороче и поясней?..”
На одиннадцатый раз он стал понимать, что из самопала, а затем и из револьвера Пушкин стрелял мотивированно; мотив, конечно, странноватый, но глав ное – он был. Пушкину не нравилась фамилия начцеха. Она его раздражала…
“Фамилия еврейская? – спросил главврач и совсем перестал что-либо понимать, узнав, что она французская. – Французов-то за что не любить?” – удивился он; за что не любить евреев, он знал.
Мы объяснили: да, есть у нашего друга такая странность: будучи в целом интернационалистом, готовым водить хороводы с любыми национальностями, он делает почему-то сильное исключение для французов. Эта нация выводит его из себя до такой степени, что едва зазвучит где-нибудь ихняя фамилия, как у него сразу же оружия ищет рука – самопала или револьвера. Однако теперь все переменилось, отныне его рука ничего огнестрельного искать не будет, потому что выяснилось: наш француз – вовсе и не француз, а итальянец, точнее, отдаленный потомок одного макаронника, приехавшего бог весть зачем из солнечного Неаполя в заснеженный
Петербург. Пушкин о своей ошибке уже знает и готов на коленях извиняться перед начцеха, потому что итальянцев он как раз любит
– причем настолько, что и здесь слегка нарушает свой интернационализм: вместо того чтоб любить их одинаково с остальными, он их любит больше всех…
“За что ж это он их так взлюбил?” – с подозрительностью спросил главврач.
Мы ответили: не знаем. Может, за оперу “Аида”, а может, как раз и за макароны,- любовь штука тонкая, ее аршином общим не измеришь, вырастает она порой из совершеннейшего сора, а то и вообще из дерьма. Главврач с нами согласился, сказав: “Это точно. Моя любовь к жене как раз из него и выросла. Может, поэтому до сих пор никак не кончится. Вы можете мне не поверить, но я засыпаю с ее именем на устах”.
“А просыпаетесь с каким?” – поинтересовались мы. “Разве здесь просыпаются? – с горечью сказал главврач.- Здесь будят. Едва заалеет восток, как в палату приходят медсестры и начинают делать уколы – кому в мозжечок, кому в затылочный полюс или в верхнюю теменную дольку… Вопли стоят такие, что и мертвый почувствует дискомфорт…”
Мы вернулись к разговору о Пушкине.
“Я не могу держать у себя человека, который знает, зачем стрелял,- сказал главврач.- Такому место в тюрьме. Но поскольку ваш Пушкин стрелял без пуль, то он обыкновенный хулиган, уже отсидевший у нас больше, чем ему дал бы самый строгий суд. Я сейчас выпишу ему освобождение. Забирайте. Или, может, пусть спокойно поспит до утра?”
“Какой может быть сон? – ответили мы.- Да он сейчас мечется в коридоре, ожидая вашего решения. Рвется на свободу, чтоб поваляться в ногах у начцеха за ошибочные действия”.
“Это с его стороны будет очень правильный поступок”,- сказал главврач и сел писать Пушкину освобождение…
И все же бюрократы из районного суда настояли на том, чтоб суд состоялся. Раз не псих, значит, подсудимый – такая у них была логика.
Мы опять протестовали против позорного судилища, стояли с плакатами: “Ой, как нам за вас стыдно, граждане судьи!” и
“Прокурор, на кого ты замахнулся своею грязною рукой?”
Но стояли недолго, суд кончился быстрей, чем можно было ожидать, и это благодаря толковому адвокату, которого мы наняли в долг.
Он на суде сказал: “Даже если б Пушкин стрелял настоящей пулей и ранил или, чего доброго, убил бы своего непосредственного начальника, и то все равно стрельбу эту следовало бы квалифицировать как покушение на убийство негодными средствами.
Потому что он думал бы, что покушается на француза, он хотел бы убить француза. Но ему бы это не удалось, так как перед ним стоял итальянец. И ребенку ясно, что стрельба по итальянцу с целью убить француза является классическим случаем покушения негодными средствами. То есть даже при наличии пули Пушкин должен был бы избежать наказания. Ведь не станете же вы, граждане судьи, судить, тем более давать срок погрязшей в суевериях темной женщине, которая, выкрав у мужа фотографию его любовницы, обливает ее собственной мочой и бормочет над ней бессмысленные фразы, совершая таким образом магический обряд, который, по ее мнению, должен умертвить соперницу? Вы рассмеетесь, узнав о ее действиях, и, хотя эти действия имели целью убийство человека, отпустите ее, сказав: “Продолжай пиЂсать на любые фотографии, только, пожалуйста, мой руки перед едой”. Вы так скажете ей, потому что, покушаясь на убийство, она делала это негодными средствами… Ну а разве покушение на жизнь француза стрельбой по итальянцу не является тем же самым? Ведь нет никакой возможности, стреляя в итальянца, покончить с ненавистным французом. Этот француз в не меньшей безопасности, чем соперница вышеупомянутой женщины. Таким образом, даже если бы самопал, а впоследствии и револьвер были заряжены пулей и эта пуля продырявила бы человека по национальности “итальянец”, судить стрелявшего было бы нельзя, поскольку он думал, что стреляет во француза. А если еще учесть, что Пушкин из врожденного гуманизма стрелял без пули, что из ствола вылетел один только грохот, то есть, говоря языком великого Шекспира, было много шуму из ничего и ничего, кроме этого ничего, не было,- если все это учесть, то… друзья мои, объясните: чего мы тут сидим? Двузначное число неподкупных специалистов права собрались, чтоб обсудить неудачную шутку, не имевшую последствий. Страна коррумпирована, кругом жулики, рэкет, вымогательства, заказные убийства, ограбление банков и магазинов, а мы… Господа, давайте зальемся краской стыда и пойдем заниматься делом. Его много, и оно нас ждет!..”