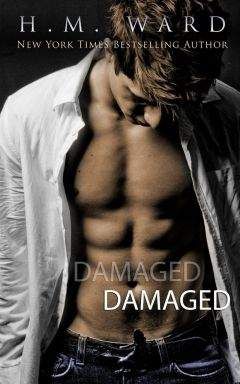Су Тун - Рис
У Лун не хотел гасить лампу. Нет, тьма не страшила его, просто свет помогал – так казалось У Лун’у – поддерживать ясность рассудка. На новом витке своего бытия надлежит осознать его ход, уяснить его будущность. Многое в нем предсказать невозможно, но можно представить. Коль мысли укрыты от глаз и ушей, в них же можно представить себе что угодно. Дождь утихал. В холодном предутреннем небе носился чуть слышимый звон бубенцов. Бубенцы старой пагоды. При дуновении ветра они изливают на улицу Каменщиков всю свою отрешенность, свое одиночество. Их перезвон, как всегда, навевал на У Лун’а сонливость. Он даже зажал одно ухо, пытаясь расслышать далекий ритмический гул. Задрожали железные рельсы. Завыл паровозный гудок. И помчался гружённый углём товарняк. И свернулся калачиком прямо на угольной куче голодный, измотанный сельский юнец. Содрогнулась земля, заходил ходуном весь лабаз: он ведь тоже один из вагонов состава. И снова трясет и качает меня на пути бесприютных скитаний. Куда этот поезд меня привезет?
В день Нового года по улице Каменщиков суетливо сновали веселые дети и «словно цветущие ветви одетые» женщины. Греясь на солнышке – как и весь люд, отмечающий праздник – У Лун, примостившись у входа в лабаз, с кислым видом лущил земляные орехи, бросая по ноги размятую в пыль скорлупу: торжество для него год от года теряло свой смысл, оставляя лишь праздность и скуку.
– И как оно в браке, У Лун? – подмигнула ему голова, показавшись в дверях старой кузницы.
– Обыкновенно, – У Лун напихал в рот орехов. – У Лун, он всё тот же У Лун. А женат или нет, мне без разницы.
– Разница есть. Ты попозже поймешь, – изрекла голова тоном «вдоволь хлебнувшего ветра и снега». – Что с ними к родне не пошел?
– Мне тащится туда не охота.
– Они тебя брать не хотят! – потешалась над ним голова.
– Отцепись, без тебя уже тошно, – У Лун опустил глаза в землю. – Вообще ни о чем говорить не желаю.
Солнечный свет угасал. Разбредался снующий по улице люд, оставляя на пыльной брусчатке арбузные корки, скорлупки орехов, останки сгоревших шутих... День слепого веселья и праздных утех показался У Лун’у на редкость пустым и бессмысленным. На перекрестке, в толпе показалась семья: тесть раскланивался с мясником, изогнувшись сушеной креветкой; Ци Юнь шла под ручку с Чжи Юнь, обгрызающей сладкий тростник. У Лун медленно встал. Эта троица вдруг превратилась в сознаньи его в наползающую необъятную тень. У Лун юркнул в лабаз. Я боюсь этой тени: она – западня, эта тень – мышеловка. Они в эту тень завлекают меня, чтобы пить мою кровь, поглощать мои силы, глодать мое сердце. Смущенный внезапным виденьем, У Лун через залу прошел вглубь пустого двора, но как только не тужился, в пыль не упало ни капли. У Лун огляделся. Никто не смотрел на него – старый хрыч c дочерьми еще плелся по улице Каменщиков – здесь другая причина: витавший в лабазе болезненный женственный дух начинал проникать в его плоть, превращая ее ослабевшие члены в добычу семейства торговцев.
Едва возвратившись в лабаз, раскрасневшийся, благоухающий пойлом хозяин окликнул У Лун’а. Тот медленно вышел к прилавку, брезгливо взглянув на расплывшуюся на хозяйском лице плутоватую мину.
– Ты завтра на лодке поедешь в У Ху[19]. Там лабаз закрывается, – с радостным блеском в глазах охмелевший хозяин мусолил заварочный чайник. – Рис, говорят, в полцены отпускают. Загрузишь две лодки, и голод весенний не страшен.
– Прям завтра в У Ху? – У Лун фыркнул ноздрями. – Вчера оженили, уже поручение. Жизни спокойной и дня не дадите.
– Ты впрямь воплощенье достойного зятя, – скривился в усмешке хозяин. – Пойми, если дочь мою даром добыл, так усилий немного обязан потратить. К тому же я деньги плачу.
– Чай не хуже других понимаю. И я не сказал, что не еду. И как я могу? Вы же выдали дочь за меня.
– Денег много возьмешь, – открыв ящик и перебирая купюры, хозяин с тревогой взглянул на У Лун’а. – Ты, главное, спрячь хорошенько. Пиратов полно на реке. Деньги в лодке не вздумай держать. Лучше в туфли засунь, так надежнее.
– Если уж деньги мне в руки попали, так просто не выпущу. А за меня вы спокойны? Исчезну с деньгами: и зятя, и рис - всё зараз потеряете.
Выпучив от изумленья глаза, тесть застыл с посрамленным испуганным видом, но вскоре, очнувшись, опять обратился к подсчету:
– Не думаю, что ты настолько испорчен. Ты прежде был жалкий такой: на коленях стоял, умолял приютить. Ныне всё позабыл? Я же дочку отдал за тебя.
– Не стоял на коленях я. Ни перед кем не стоял, – У Лун вперил в смущенного тестя неласковый взгляд, но, подумав о чем-то, махнул вдруг рукой в пустоту. – Мне без разницы. Раз говорите, стоял, ну так, значит, стоял.
– Так ты едешь в У Ху?
– Я ваш зять. Кто поможет вам, если не я?
У Лун вышел к воротам и высморкал нос на брусчатку.
– Но вот что хочу вам сказать. Если встречу пиратов, – У Лун вытер пальцы о грязный косяк, – лучше деньги отдам. Не хочу терять жизнь за две лодки зерна.
Он стоял у ворот, созерцая укрытую сумраком улицу Каменщиков, и отчетливо видел, как тонет в реке сторож баржи, наполненной белым сверкающим рисом. Да разве сочтешь сколько душ в годы смуты, войны и упадка безвинно спускаются к Желтым ключам[20]? Оттого что глупцы. Только я не таков: жить – важнее всего для меня. Жить как следует жить человеку.
Среди ночи Ци Юнь разбудил громкий стук в дверь её почивальни.
– Быстрей отвори! Ну, впусти же меня!! – голосила снаружи сестра.
С сонным видом Ци Юнь поплелась открывать. В дверь влетела Чжи Юнь – на плечах одеяло, в глазах безотчетный испуг – и немедля зарылась в чужую постель:
– Я от страха помру! Моей смерти хотят!!
– Вот взяла бесноваться на третью стражу[14], – взобравшись на ложе, Ци Юнь отпихнула дрожащее тело сестры. – Не хочу с тобой спать, от тебя всякой дрянью воняет.
– Такая жуть снилась, – накрыв одеялом лицо, еле слышно бубнила Чжи Юнь. – Приходили меня убивать. Вот с таким свинорезом гонялись.
– Да кто там всё снится тебе?
– Мужики: досточтимый, Крепыш и У Лун. Это он свинорез приволок!
– Поделом. Рано ль, поздно от рук их погибнешь. Твое воздаяние.
– Может быть, всё от того, что я днем за свиньей наблюдала? – высунув голову из-под дрожащего, словно листок на ветру, одеяла, Чжи Юнь возвела на сестру умолявший о помощи взгляд. – Скучно было до одури. Ну и пошла к мяснику. Поглядеть, как свинью будут бить. Ну а там свинорез в один чи[17], и кровища с него. Вот У Лун мне с таким и приснился.
– Все мужики – лиходеи бесстыжие. Думаешь, кто-нибудь любит тебя? – не желая лежать голова к голове, Ци Юнь сдвинула к краю подушку.
– Зря я ходила смотреть на свинью. Но такая скучища: не на свинью, так на что посмотреть? – испустив тяжкий вздох, Чжи Юнь тронула вздутое чрево. – Так глупо счастливое время проходит. Родится ребенок, конец же всему. Его мать! Не могу примириться.
– А ты что хотела? – Ци Юнь, задув лампу, легла на другой половине резной деревянной кровати. – Давай-ка уж спи. Только знаешь, что жрать. Это мне подниматься в ранищу. Как лошадь по дому пашу. Голова что ни день идет кругом, хоть сдохни. А вам наплевать.
– Ты не спи. Ты со мной поболтай хоть чуток, – перебравшись поближе к сестре, умоляла Чжи Юнь. – Неспроста в душе смута. Вдруг лихо какое грядёт? Или может с У Лун’ом чего приключилось ?
– Никак за него беспокоишься? – поворотившись спиною к сестре, Ци Юнь зло рассмеялась во тьму. – Может, просто боишься? Страшно тебе, что узнает про чадо приблудное.
– Может и страшно. Меня иногда подмывает ему рассказать, да и пусть со мной делает, что пожелает. Всё лучше, чем жить перед ним виноватой. Ци Юнь, ты как думаешь, если и вправду узнает?
– Твой муж, у него и спроси. Очень нужно мне лезть в ваше тухлое дело, – Ци Юнь отпихнула прочь руку сестры, нервно вившей на перст ее длинные пряди. – Совет тебе – лучше молчи. Он же «злобен душою, рукою тяжел»: по глазам его вижу.
– «В бумаге не спрячешь огня». Как ты думаешь, долго удастся скрывать?
– Только Небу известно, – Ци Юнь, приподнявшись, сквозь полнивший комнату мрак оглядела сестру испытующим взглядом.
– Я вот что спрошу, – Ци Юнь снизила голос. – По правде скажи, если он не вернется, ты как... будешь плакать?
– Ты это зачем мне… – Чжи Юнь распахнула глаза. – Ты зачем...