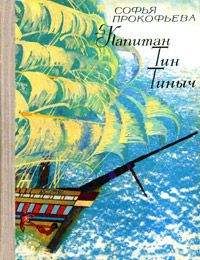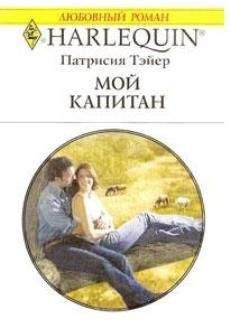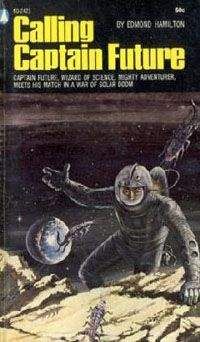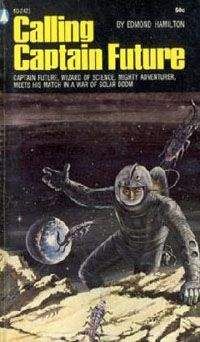Джек Керуак - Подземные (Из романа «На дороге»)
Когда я смеюсь она смотрит на меня маленькими круглыми черными глазами которые прячутся под веками потому что она смеется тяжко (искажая все свое лицо, обнажая зубки, освещая все везде) (первый раз когда я ее увидел, у Ларри О'Хары, в уголке, я помню, я приблизил свое лицо к ее чтобы поговорить о книгах, она обернулась ко мне близко-близко, то был океан всего тающего и тонущего, я мог бы плыть в нем, я боялся всего этого богатства и смотрел в другую сторону)
Со своим розовым платком который она всегда повязывает на голову ради удовольствий постели, как цыганка, розовым, а потом пурпурным, и маленькие волоски опадают черным с фосфоресцентного пурпура на ее челе коричневом как дерево
Ее небольшие глаза шевелятся как кошки
Мы ставим Джерри Маллигэна громко когда он приезжает посреди ночи, она слушает и грызет ногти, ее голова медленно покачивается из стороны в сторону как у монахини глубоко в молитве
Когда она курит то подносит сигарету ко рту и сощуривается
Она читает до серой зари, подперев голову одной рукой, Дон Кихота, Пруста, что угодно
Мы ложимся, смотрим серьезно друг на друга ничего не говоря, голова к голове на подушке
Временами когда она говорит а моя голова ниже ее лица на подушке и я вижу линию ее подбородка ямочку женщину в ее шее, я вижу ее глубоко, богато, шею, глубокий подбородок, я знаю что она одна из самых оженствленных женщин которых я видел, брюнетка вечности непостижимо прекрасной и навечно печальной, глубокой, спокойной
Когда я настигаю ее в доме, маленькую, сжимаю ее, она пронзительно вскрикивает, щекочет меня яростно, я смеюсь, она смеется, ее глаза сияют, она колотит меня кулачком, ей хочется избить меня хлыстом, она говорит что я ей нравлюсь
Я прячусь с нею вместе в тайном домике ночи
Заря застает нас мистическими под нашими покровами, сердцем к сердцу
"Сестра моя!" подумал я вдруг когда впервые увидел ее
Свет гаснет.
Грезы дневные вот она и я раскланиваемся на больших приемах феллахов с коктейлями как-то с блистающими Парижами на горизонте и переднем плане — она пересекает длинные доски моего пола с улыбкой.
Вечно испытывая ее, что идет рука об руку с «сомнениями» — да уж сомненья — и мне бы хотелось обвинить себя в сволочизме — такие испытания кратко я могу назвать два, та ночь когда Ариаль Лавалина знаменитый молодой писатель вдруг стоял в Маске а я сидел с Кармоди теперь тоже знаменитыми писателем в каком-то смысле только что приехавшим из Северной Африки, Марду за углом у Данте рассекая взад и вперед по нашему всеобщему обыкновению, из бара в бар, и иногда она туда врывалась без спутников повидать Жюльенов и прочих — я заметил Лавалину и позвал его по имени и тот подошел. — Когда Марду зашла забрать меня и идти домой я не хотел уходить, я уперся в то что это самое важное литературное событие, встреча этих двоих (Кармоди замыслив со мною вместе за год до этого в темном Мехико когда мы жили нищо и битово а он торчал: "Напиши письмо Ральфу Лоури разузнай как мне повстречаться с этим вот симпатичным Ариалем Лавалиной, чувак, посмотри только на эту фотку сзади на Признании Рима, ништяк какой а?" мои симпатии к нему в этом деле будучи личными и опять-таки как и Бернард тоже гомик он был связан с легендой о моих собственных крутых мозгах которые были моей РАБОТОЙ, этой всепоглощающей работой, поэтому написал письмо и все такое) но теперь вдруг (после конечно никакого ответа из Искии и иначе всяких сплетен и определенно в такой же степени хорошо для меня по крайней мере) он стоял там и я узнал его с того вечера когда мы с ним встретились на балете в Мете когда я был в Нью-Йорке в смоке в котором рассекал вместе со своим редактором тоже в смокинге чтоб посмотреть на сверкающий ночной мир Нью-Йорка мир литературы и острого ума, и Леон Даниллиан, вот я и заорал "Ариаль Лавалина! иди сюда!" что он и сделал. — Когда пришла Марду я зашептал ликующе "Это Ариаль Лавалина безумно правда!" — "Ага чувак только я хочу домой." — А в те дни ее любовь означала для меня не больше чем то что у меня была милая удобная собачонка бегающая за мною по пятам (совсем как в моем подлинном скрытном мексиканском видении ее следующей за мною вниз по темным глинобитным улочкам трущоб Мехико на идущей со мною рядом а следующей за мной, как индейская женщина) я лишь прикололся и сказал "Но погоди, ты иди домой и подожди меня, я хочу врубиться в Ариаля а потом сразу домой." — "Но бэби ты же говорил так прошлой ночью и опоздал на два часа и ты не знаешь какую боль мне причиняет ждать." (Боль!) — "Я знаю но посмотри," и поэтому я пошел с нею вокруг квартала дабы убедить ее, и пьяный как обычно в одном месте чтобы доказать что-то встал на голову на мостовой Монтгомери или Клэй-Стрит и какие-то лохи проходили мимо, увидели это и сказали "Эт пральна" — наконец (она смеялась) засунув ее в такси, ехать домой, ждать меня — вернувшись к Лавалине и Кармоди кого ликующе и теперь в одиночку обратно в своем вселенском ночном подростковом литературном видении мира, с носом прижатым к оконному стеклу: "Вы только посмотрите сюда, Кармоди и Лавалина, великий Ариаль Лавалина хоть и не великий великий писатель как я однако такой же знаменитый и блистательный и т. д. вместе в Маске и это я это устроил и все завязано вместе, миф дождливой ночи, Мастер Псих, Разбитая Дорога, возвращаясь назад в 1949 и 1950 и все вещи великолепны замечательны Маска старых корок истории" — (вот мое чувство и я вхожу) и сажусь с ними и пью дальше — отправившись потом втроем в 13 Патер на лесбийскую точку по Колумбусу, Кармоди, улетевший, оставил нас кайфовать и мы сидели там, дальнейшее пиво, ужас невыразимый ужас меня самого внезапно обнаружившего в себе нечто вроде возможно Уильяма Блейка или Сумасшедшей Джейн или на самом деле Кристофера Смарта алкогольное унижение хватая и целуя руку Ариаля и восклицая "О Ариаль дорогуша — ты будешь — ты так знаменит — ты писал так хорошо — я помню тебя — что — " что бы там ни было а теперь невспоминаемо и пьяный угар, и вот он такой хорошоизвестный и совершенно очевидно гомосексуальный чистой воды, мой ревущий мозг — мы идем к нему в номер в каком-то отеле — Я просыпаюсь утром на тахте, наполненный первым ужасным признанием факта: "Я не вернулся к Марду вообще" поэтому в такси которое он для меня берет — я прошу пятьдесят центов но он дает мне доллар со словами "Ты мне должен доллар" и я вылетаю наружу и быстро иду под горячим солнцем лицо все разломано от кира и врываюсь к ней в Небесный Переулок как раз когда она одевается идти к врачу. — Ах грустная Марду с темными глазками глядящими с болью и прождала всю ночь в темной постели и пьянющий мужик ухмыляется ей и я помчался вниз фактически сразу же за двумя банками пива чтобы все поправить ("Оттащить страшных гончих волос" сказал бы Старый Бык Баллон), поэтому пока она омывалась перед тем как выйти я вопил и куролесил — уснул, чтобы дождаться ее возвращения, которое случилось в конце дня просыпаясь лишь чтобы услышать крик чистых детей в закоулках внизу — ужас ужас, и решив: "Напишу-ка сразу письмо Лавалине," приложив к нему доллар и извиняясь за то что так надрался и вел себя так что ввел его в заблуждение — Марду вернулась, никаких упреков, только несколько чуть позже, и дни катятся и минуют и все-таки она прощает меня достаточно или смиренна достаточно вслед за падением моей разбивающейся звезды фактически чтобы написать мне, несколько ночей спустя, вот это письмо:
ДОРОГОЙ БЭБИ, Разве не хорошо знать что зима подходит — поскольку мы так много жаловались на жару а теперь жара спала, воцарилась прохлада, ее можно было ощутить в сером воздушном стоке Небесного Переулка и в том как выглядело небо и ночи с более волнистым посверкиванием в уличных фонарях
— и что жизнь станет немножко поспокойнее — и ты будешь дома писать и хорошо кушать и мы будем проводить приятные ночи обернутые друг вокруг дружки — а ты сейчас дома отдохнувший и хорошо кушаешь потому что, тебе не следует слишком грустить
написано после, одной ночи, в Маске с нею и только что прибывшим и будущим врагом Юрием былым близким братушкой я вдруг сказал "Я чувствую себя невозможно грустно и типа я умру, что нам делать?" и Юрий предложил "Позвони Сэму" что, в своей грусти, я и сделал, да так старательно, поскольку иначе он не обратил бы внимания будучи газетчиком и молодым папой и времени на приколы нет, но так старательно он принял нас, троицу, сразу же пригласив, из Маски, к себе на квартиру на Русском Холме, куда мы пошли, я напиваясь больше чем обычно, Сэм как всегда лупцуя меня и приговаривая "Беда с тобой, Перспье," и "У тебя на дне твоего склада гнилые мешки," и "Вы кануки в натуре все похожи и я даже не верю что вы признаете это когда помирать станете" — Марду наблюдала развлекаясь, немножко пила, Сэм наконец, как всегда свалился мертвецки, но не всамделишне, мертвецки-желая, на маленький низенький столик покрытый в фут высотой пепельницами нагроможденными на три дюйма в высоту и напитками и всякими кнюсями, тресь, его жена, с младенцем только что из колыбельки, вздыхая одними глазами — Юрий, который не пил а лишь наблюдал бусиноглазо, после того как сказал мне в первый же день по своем приезде: "Знаешь Перспье ты мне теперь в самом деле нравишься, мне в самом деле хочется с тобой теперь общаться," что мне и следовало подозревать, в нем, как составляющее новый вид зловещего интереса к невинности моих занятий, которые существовали под именем, Марду