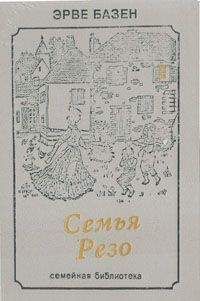Эрве Базен - Анатомия одного развода
Барышня — это он так о Розе, уже надоевшей Луи своими непрерывными просьбами:
— Перестань, папа, пожалуйста, перестань. Полицейский ее поддержал и затянулся сигаретой, торчавшей у него во рту:
— Ох уж эти истории с разводами! Если вмешиваться по каждому спорному делу, мы бы, пожалуй, с ног сбились!
Наконец ему все надоело, и в раздражении он буркнул, предостерегающе подняв руку:
— Я, конечно, могу принять ваше заявление и дать ему ход. А есть свидетели, которые подтвердят, что вам отказано в свидании с детьми?
— Да вся улица! — сказал Луи.
— Улица — это еще не фамилия, — отпарировал любящий точность чиновник. — С собой у вас брачное свидетельство? А выписка судебного решения есть — та, что разрешает вам брать детей?
Луи похлопал себя по карманам. Брачное свидетельство? Оно ведь спрятано у Алины. Выписка из решения суда? Трехстраничный текст, да еще на плотной бумаге довольно большого формата — кто же будет постоянно носить ее с собой, даже вчетверо сложенной в бумажнике?
— Весьма сожалею! — заключил чиновник с выражением сочувствия и напоследок добавил: — На вашем месте я бы пошел к судебному исполнителю. Но в воскресенье там не работают.
Так Луи и пришлось ретироваться, уязвленному, рассвирепевшему. Машина стояла недалеко, метрах в тридцати от комиссариата, и, подойдя к ней, Луи зло расхохотался. Он, оказывается, поставил ее не с той стороны, где положено, и какой-то блюститель порядка счел нужным, проходя мимо, наградить его на пасху штрафным талоном, который Луи и обнаружил у себя под стеклоочистителем. Однако мелкие неприятности иногда помогают легче переносить крупные, к тому же Роза, желая утешить отца, крепко обняла его. Луи ощутил, как свежа, нежна и уже хороша собой его дочь, как приятно от нее пахнет, как она счастлива, что сегодня отец принадлежит ей одной. Если ее недостаток в том, что она похожа на мать, то сходство это все же воскрешает прежнюю Алину, безобидную, ставшую почти легендой где-то в дымке воспоминаний. И таким же, как у ее матери, маленьким ротиком это дитя дважды его поцеловало, сказав разумно и ласково:
— Да и для нас это не так уж весело. Можно подумать, будто мама хочет забыть, что родила нас от тебя. И все же…
Ей, Розе, еще нет пятнадцати, но по уму уже все двадцать. Она и маленькой была такой же — пылкой, непохожей на других, очень сообразительной, здравомыслящей не по годам, остроумной. И все же… Луи уже выехал, несколько превысив скорость, на авеню де Пари он и виду не показал, что понял. Ни от кого другого, кроме Розы, он не стал бы выслушивать этот деликатный намек: И все же вы ведь любили друг друга… Чтобы дышать, нужны оба легких, чтобы жить — отец и мать. Если теперь родители — лишь обломки распавшейся семьи, то я, во всяком случае, родилась от их любви. Если и это не так, то дышать больше нечем… Розе казалось, что нельзя даже затрагивать эту тему. Другим — тоже. Какая разница между выбором Розы и Агаты? Роза предпочла отца, потому что он создал ее вместе с матерью, Агата предпочла мать, потому что она создала ее вместе с отцом. Разве это не одно и то же? Те, чей родной город был уничтожен войной, сироты, у кого в метриках два прочерка, — разве не остается у них навсегда ощущение увечности, желание разыскать родных или узнать, кто они? Но тем, кто знал их и утратил, нисколько не легче, они молча вопиют: Тех, от кого мы произошли, больше нет, и мы не можем жить полной жизнью.
Луи едет по авеню дю Трон. Он недоволен собой. Он дал себе волю. Перед Алиной нужно было хранить холодное достоинство. Пусть вся вина падет на нее, тем лучше. Но что это? Роза погладила его руку — ту, что лежала на руле, хоть это строго запрещалось, — и сказала:
— Если бы наши дедушка и бабушка расстались в дни твоей юности, ты бы лучше нас понимал.
— Гм! — ответил Луи.
А собственно, почему он так удивился? Если проводить сравнение с собственным детством, то сама мысль о возможности развода кажется ему дикой. Просто нелепой. Но почему же нелепой, для кого? Справа — мать, слева — отец, а он, Луи, посредине, ему разрешили полежать минут пять в уютном тепле большой кровати красного дерева; это его самое первое воспоминание, и это воспоминание свято, будто простыня с затейливо вышитыми инициалами была покрывалом с церковного престола, принадлежащего богу домашнего очага, единому в трех лицах. Да, да, так оно и было… Именно об этом напомнила сейчас Роза.
11 апреля 1966
Больной ангиной Леон, свернувшись клубком в теплом халате, поглядывал одним глазом на экран телевизора, придвинутого к дивану, другим — в учебник Монжа и Гиншана. Приятно следить за матчем еще и потому, что хорошо знаешь игроков и комментатора. К тому же после большой чашки грога и разных порошков Леона охватило блаженное состояние, и он наслаждался. Из подвального этажа опустевшего дома, где остались только кошка, Ги и Леон, слышались фальшивые и нестройные рулады маленького любителя флейты.
Накануне в это же время тут было не меньше двадцати человек, танцуя, они исцарапали весь паркет. Верховодила Агата, а Леона, освобожденного от всех хлопот, приставили к радиоле. Дядя Анри кружил дам и отдавил им все ноги. Габриель рассматривал приготовленное угощение, подарки, платья, сшитые для танцев, прикинул расходы и громко сказал:
— Это легкомысленно, Алина. Твоя щедрость никого не удержит.
Он ушел, а праздник продолжался до глубокой ночи, хотя мать устала, голова ее клонилась на грудь, и она то и дело терла глаза, чтобы подавить сон, стремясь показать любимым детям, что готова ради них жертвовать и отдыхом и деньгами.
— Гол! На тридцать второй минуте команда Овернского спортклуба открывает счет, — выкрикнул комментатор.
Защита была прорвана верным ударом, и Леон, большой специалист в этих делах, усилил звук, повернув регулятор босой ногой. Счастливец, забивший гол, стоял, раскинув руки буквой V[10], а товарищи по команде наперебой обнимали и поздравляли его. С колен Леона соскользнули на ковер господа Монж и Гиншан, которых он бросил на 67-й странице.
Сегодня утром вернулась к домашнему очагу Роза — она принесла послание, которое тут же принялась читать вслух: «По просьбе Розы я не подал жалобы. Но сделаю это через час, если она не приведет ко мне тех, кто вполне здоров… Что же касается заболевших, то пусть приезжают, как только поправятся…»
— Спасибо, Роза, я никогда не сомневалась в тебе..
Мать быстро завладела бумажкой и прервала чтение, исключив возможность всяких комментариев.
— Хорошо! Бегите, девочки! Нет, Ги, ты останься. Не будем рисковать: тебе выходить еще нельзя.
Конечно, она не могла отказаться от своих слов, и Ги, который вчера был так доволен, что его оставили дома на день рождения Агаты и что можно будет еще повеселиться на улице Вано, ушел и заперся у себя в комнате. Тотчас же началась пытка звуками: он с яростью заиграл на флейте «Фульского короля» — мелодию, которую Алина по непонятным причинам не выносила. Впрочем, он не достиг своей цели; он не знал, что пришел Габриель и предложил:
— Алина, в полдень ко мне придут друзья. Будут Дюмоны и еще кое-кто. Приходи пообедать с нами. Да-да, тебе пора немного проветриться. А мальчиков можно до вечера оставить одних. После вчерашнего пиршества у вас столько еды — им вполне хватит.
И она согласилась, с трудом скрывая, как ей приятно это приглашение; и на прощание громко сказала:
— Конечно, ты прав, теперь я свободна. Тряхну стариной — вспомню девичьи дни… А ты, Леон, присмотри за малышом.
Снова восторженный вопль с экрана — вот и второй гол! То, что мать действительно некогда была молоденькой (иногда она, ворча, напоминала об этом), что она вполне может — ведь Алина так редко принимала у себя и еще реже бывала в гостях — пойти куда-нибудь пообедать разок на чужой скатерти, которую ей не нужно будет потом бросать в грязное белье, — все это как-то не доходило до сознания Леона. Однако он понимал: друзей, которые бы приглашали к себе или приходили к ним домой, уже осталось мало, и тех, кто составлял исключение, следовало всячески поощрять. Гул на экране все еще длился и вдруг закончился странным металлическим звуком. Пора было поднять с пола Монжа и Гиншана. Ведь экзамен приближался. Но этот странный металлический звук совпал с тем, что замолкла флейта… Черт возьми! Леон быстро отодвинул занавеску и успел увидеть, как там, в конце улицы, улепетывает этот дрянной мальчишка.
Что мог сделать Леон, босой, в халате, с налетами в горле? А если он ничего не предпримет, то как это истолкуют? Когда беглец явится на улицу Вано, его примут с распростертыми объятиями, осмотрят и с упреком скажут: Малыш-то совершенно здоров. Значит, ты, Леон, об этом знал? Мать тоже будет недовольна: Я на тебя понадеялась, а ты дал ему удрать. Уверена, ты это сделал нарочно! Каждая сторона будет считать его сообщником противника, а ведь он ничей не сообщник — нет и нет! К счастью, надо проехать двенадцать станций по Первой линии, сделать пересадку на площади Согласия, потом еще четыре остановки, и только тогда Ги доберется до станции «Севр-Бабилон» — таким образом, Леону хватит времени подумать и позвонить, чтобы на улице Вано все знали, как глубоко он сожалеет, что не смог прийти вместе с сестрами — он уже давно должен был бы позвонить.