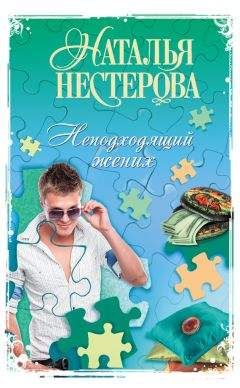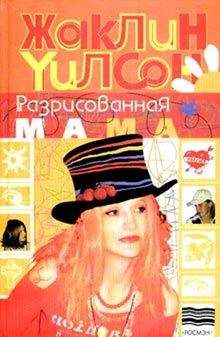Сергей Солоух - Самая мерзкая часть тела
— Да, спит он, Вадик.
— Буди, Люба, поднимай, — подпрыгивает или приседает где-то совсем недалеко ближайший родственник. А может быть, по потолку похаживает, так газировка перевозбуждения играет. Радугой ходит в жилах.
Вот ведь как. Положил, забил, облокотился Сима на все народные гулянья. Отъехал, ни лозунга не взял, ни флага. Не тут-то было, расселась под окнами команда похоронная в свадебных галстуках, меха раздула, да как дунет-дунет во всю ширь парадной меди.
— Будь здоров, спокойной ночи! — и трубка телефонная припадает к голове холодным пластиком.
— Алло.
— Митька, — в ответ ухо наполняет кипяток Вадькиного смеха. — Митяй, — шампанским прямо пенится, стреляет пробкой, известки звезды высекает, братишка, доктор, врач. Вадим Васильевич Швец-Царев. — Ну, уж теперь-то старая карга тебя точно посадит.
Кто? Что? Почему?
— Малюта-дура сегодня утром на тебя телегу написала.
Да, да. Увы. Написала. Накатала, смочила слезой сивушной, скрепила подписью. На! Получи, фашист, за все сразу.
Пусть не думает, что пьяная была. Шары залила, ничего не видела. Маневров не поняла.
Лерку-сучку ему подай. Побежал, попрыгал. Гад. Зашлось сердечко, железки в разных местах тела затрепетали. Горько, горько. И вот уже рука сама разводит замочек, распахивает заповедный уголок. Индиго синее дембельской гармошкой спускается к коленкам Юры Иванова, и петушок уж тут как тут, готов прокукарекать полночь. Берет Ириша теплокровное всей пятерней, бойца осматривает, изучает, вздыхает горько, безутешно и принимает в алой помадой измазанные губы.
Картина! Скульптурная композиция. Мрамор и бронза.
От этакого Эрмитажа Павлуха, Иванов номер два, конечно, теряет голову. Подобно кронштадтскому сам морячку на себе одежды рвет. Так дергает медную пуговку, подло засевшую в узкой петле, что на пол падает. В лежачем положении, как ужик, ловко сдирает трузера и тут же соколом взвивается. Бог плодородия и танцев с античным дротиком наперевес.
Все было. Все было, и не хватало только ценителя, эстета. Человек с театральным биноклем не заглянул вчера ночной порой в южносибирскую квартиру управляющего Верхне-Китимским рудником Афанасия Петровича Малюты.
Явился он только под утро с ручным фонариком. И с пистолетом в кобуре.
Сержант и два ефрейтора пилили на дежурном воронке по Притомской набережной. Во дворы заворачивали, из арок выезжали. Выхватывали светом фар колонны и прочие архитектурные излишества эпохи подневольного труда. Неспешно беседовали о вечном и прекрасном, и вдруг, Шишкин-Мышкин-Левитан, предмет беседы им открывается во всей красе. На дереве висит.
При непосредственном осмотре места происшествия оказалось, все же на перекладине скамейки. Гнездится. Небритый пирожок, из которого дети берутся. А остальная часть комплекта — руки и голова — с той стороны. На желтых деревянных плахах сиденья. Прикрытые сорочкой, свалившейся с лопаток.
Девушка. Человеческое существо.
— Эй, бляха-муха, живая? Нет?
Похоже, да. Только стоять не может. Качает утренний зефир, трясет голубу. Жмурится в злом свете осветительных приборов, к глазам подносит узкую ладошку. Икает. Пытается прилечь, присесть. В конце концов головку поворачивает к тому, что справа держит, не дает принять устойчивое положение, и обдает немыслимо вонючим жаром сердца:
— Найдите его, — слеза мгновенно набухает. Две сразу, огромные галантерейные стекляшки, и скатываются синхронно в рот:
— Найдите гада, мальчики!
Короче, совсем плохая.
— Где Сима? Сима где? — все хныкала, переходя от Иванова к Иванову. С этим же вопросом сама из дома вышла на рассвете, но встретила препятствие. Вдруг, неожиданно. Споткнулась и зависла.
— Ну, чё стоите, помогите же!
Красные околыши — это не косящие от армии в высшем учебном заведении Павлуха и Юрец. Ухмыляться, погано перемигиваться после такой мольбы не станут. Права такого не имеют. Сержант и два ефрейтора вытаскивают из-за сиденья старую, пропахшую бензином и табельной махоркой шинель. Тело девичье обряжают в казенное, лишенное знаков различия б/у. И с новогодней мигалкой, на желтый, красный и зеленый, везут в отделение.
Скверик Орбиты принял обычный, затрапезный вид. Зато в мусарской дежурке стало вонять, как будто отыграли день рождения всего командного состава.
Но девка не одумалась. Корова на двух ногах все подтвердила.
Не умерла. Не уползла, как таракан под плинтус. В окошко мухой не свинтила. Слегка лишь протрезвела с первыми лучами совсем уже летнего светила и подмахнула протокол. Бумагу государственную чуть не порвала в мстительном порыве.
— Ага, товарищ лейтенант. Он самый. Лично. Дмитрий Швец-Царев.
Вот как милые тешатся. Под статью подводят. Под вышак. А начиналось все невинно. Со щипков, шлепков, покусывания. Такая акселерация. Развитие. Стремительная динамика. Трех лет не прошло.
А ведь могла бы быть и статика. Совершенная неподвижность. Покой и равновесие. Благость в сердце и душе. Если бы… Если бы не желание, понятное, конечно, стремление мамы, Полины Иннокентьевны Малюты, дать дочке приличное образование. Действительно, уж лучше ребенка неделями не видеть, чем ей, единственной и ненаглядной, позволить ежедневно слышать "и он стучит обратно", "а она вынать, вишь, не хотит". И ладно бы конвойные и караульные, учителя вверенной самой Полине Иннокентьевне Верхне-Китимской средней школы грешны. Даже на педсоветах, иной раз, если не одернешь, срываются на поселковый говорок.
Ну, и что такие могут преподать?
Нет, только в областном центре. В университетском городе должна и может стать человеком единственная дочь управляющего Верхне-Китимским рудником, Ирина Афанасьевна Малюта. На том и порешили.
Как настала в ее жизни седьмая осень, так сразу и увезли. Прочь от кедров, сопок и запреток в желто-красный, большой и светлый Южносибирск. Где фонари, асфальт и в театре музкомедии дают спектакли шесть раз в неделю.
Любила, да, любила, и что в этом плохого, Полина Иннокентьевна нагрянуть, накормить, подкинуть шмоток новых, а вечерочком, с сестрою Ольгой Иннокентьевной культурно время провести. В партере посидеть. Послушать Кальмана, Легара и Дунаевского. Исаака Осиповича. Советского композитора.
А Ирка в это время обновки примеряла с кузиной Катькой наперегонки. Бывало, впрочем, и с примененьем локтей, ногтей и кулаков. Особенно когда ехидина, Валерка Додд, подваливала. Комментатор. Одноклассница.
Но, в общем, жили мирно. Места хватало всем в огромной теткиной квартире на Мызо. Даже Валерке, которая хоть и была соседкой, но заходила редко. Не баловала. А зачем? Действительно, шесть, семь уроков ежедневно в одном классе, за одной партой для дружбы и без того достаточное испытание. Плюс спорт и прочие культурно-массовые мероприятия.
Например, прогулки вдоль вечернего Советского проспекта. Девичьи променады с заходами в сливочно-пломбирный рай кафе-мороженое "Льдинка"
Действительно, припоминается. Все началось с цукатов. Сидели две девятиклассницы, красные кубики топили в жидком крахмале, а мимо шел десятиклассник. В бар шествовал на третий этаж. Во внутреннем кармане его куртки, как оловянный часовой, руки по швам, боролась с качкой бутылка розового крепкого. Очень удобно. У стойки берешь сто пятьдесят, а оприходуешь на целых пятьсот больше. В культурной обстановке. За колонной. Под музыку. С друзьями и подругами.
Ноу-хау, называется. Но в тот исторический вечер не сработало. Потому что Сима Швец-Царев до стойки просто не дошел. Остался на втором. Увидел Иру c Лерой, два крупных изумруда кувыркнулась в его белках и стали на пару каратов больше.
— Привет, — сказал прекрасным незнакомкам Сима и улыбнулся очень хорошо. — У вас не занято?
— Да нет, — ответили девицы. Валера посмотрела юноше в глаза, а Ирка исполнила классическую трехходовку. Лоб Симки, Леркино плечо и желтый зайчик от лампиона на полированной столешнице. Попался!
А впрочем, вирус передавался воздушно-капельным путем. Губы Малюты заблестели, а вслед за ним щеки, уши и шея. Тоже готова. Приехала, курносая.
Ах, в ту секунду, на самом деле, ее паяльник показался Симке на редкость милым и изящным. И только по ходу развития их чувства, год, может быть, спустя, вдруг обнаружилось, что это приспособление, снабженное парой отверстий для симметрии, может у куклы-Ирки менять форму. Становиться внезапно толстым, свинским и зеленым.
Но в сладостный момент первого знакомства милягу хотелось просто откусить на память. Забрать на вечное храненье. Что Симка и попытался сделать. То есть побрезговал мороженым, зато беседу ни о чем легко и просто растянул на полтора часа. Когда пробило восемь и в молочно-шоколадном лягушатнике стали гасить огни, галантно вызвался до дому проводить. Ну и пошли, шурша сентябрьской листвой, известный троечник из школы номер двадцать шесть и две старательные спортсменки из третьей.