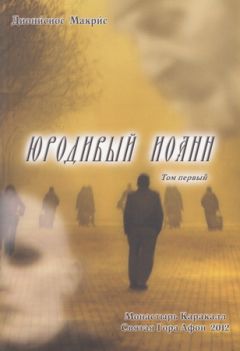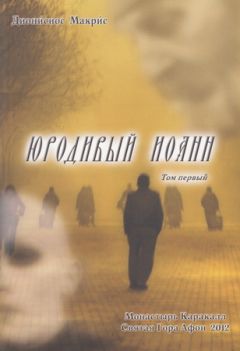Илья Константиновский - Первый арест
Не поднимая глаз, Цанис уверенно называл фамилии, и каждый, кого он называл, торопливо подходил к окну и получал квитанционную книжку- работу на день. А так как книжек на подоконнике было явно меньше, чем собравшихся под окном, то стало ясно, что по крайней мере одна треть уйдет отсюда ни с чем. Кто будут счастливцы, получившие работу, и кому придется уйти с пустыми руками, всецело зависело от черноволосого сумрачного человека с блестящим взглядом, быстрым и холодным.
Такова была обычная, принятая в «Черной банде» ежедневная процедура распределения работы. Распределения работы? Да, и работы. Но вместе с тем казалось, что здесь происходит и распределение воздуха, жизни, надежды, солнечного тепла. Стоящие перед окном люди смотрели на Цаниса с такой мольбой, страхом, молитвенной надеждой, отчаянием и снова с надеждой, точно перед ними был сам господь бог.
Раздав первые десять – пятнадцать книжек, Цанис вдруг сделал паузу и впервые поднял глаза. Толпа замерла. Только глаза ожидающих на тротуаре продолжали жить и внимательно смотрев на Цаниса. И в каждом взгляде можно было прочесть на языке, понятном всем: «Посмотрите на меня, уважаемый, дорогой, любимый господин, главный бандит из «Черной банды»! Посмотрите на меня: я ваш верный, примерный, усердный раб, я самый послушный, самый старательный, самый внимательный! Дайте книжку мне, прежде всего мне, только мне, а не этим, стоящим рядом! Они лицемеры, они вас, наверное, за глаза ругают, они даже не нуждаются в работе. Нуждаюсь я, больше всех я, только я, если бы вы знали, как я нуждаюсь! Посмотрите на меня, произнесите мое имя, только мое, раньше всех мое!»
Но с каждой произнесенной Цанисом фамилией уменьшалась надежда, с каждой отданной книжкой таяла их горка на подоконнике, и вот наконец остались только три, две, одна, кончилось! И эта отдана. Все пропало, почему же он не встает?
Может быть, есть еще, а вдруг это не все, а вдруг у него есть еще пара книжек в кармане, боже, еще не кончилось, нет кончилось, все пропало, он встал, он ушел, даже не посмотрев на тех, кто остался под окном, все, все, все, можно расходиться, можно идти домой, работы не будет, и сегодня не будет, и уже никогда не будет…
Я был настолько ошеломлен этой молчаливой,страшной, ни с чем не сравнимой процедурой, что только в самом конце спохватился, что все это касается и меня самого: я тоже остался ни с чем… …Шесть раз ходил я к окну конторы «Черной банды». Шесть раз наблюдал я оскорбительную процедуру, шесть раз замирал вместе со всеми, когда раздавался сухой треск распахнувшегося окна, и вздрагивал потом каждые тридцать – сорок секунд, когда Цанис называл очередного счастливца, а я ждал и надеялся, волновался, возмущался, снова надеялся и снова возмущался. И все шесть раз я возвращался домой ни с чем и снова уходил из дому на весь день, чтобы не видеть молчаливого, печально-покорного взгляда отца, чтобы не мучиться его тоской, пронизывающей меня до самого сердца.
Я никогда не забуду церемониала распределения работы под окном конторы «Черной банды», разъяснившего мне, что значит зависеть от власти и прихоти другого человека и не сметь возмутиться, потому что руки связаны, не сметь возражать, потому что рот заткнут нищетой.
Я никогда этого не забуду, как не забуду и многое другое, заставившее меня ненавидеть порядок, при котором один человек становится молотом, другой – наковальней, один – рабом, другой – хозяином.
Шесть раз я приходил к окну конторы «Черной банды» напрасно, а в седьмой, когда уже ничего не ждал и не надеялся, Цанис вдруг вызвал и меня и вручил квитанционную книжку.
Как описать этот первый рабочий день в моей жизни?! Как рассказать о длинных часах стояния в амбаре, где шла погрузка и где все было именно так, как описывал мой наставник Красовский,- все так, но совсем не так! С какой завистью наблюдал я за быстрой, ловкой, слаженной работой человеческого конвейера из двух подавальщиков, весовщика и грузчиков: подавальщики загребали деревянными ведрами зерно и заполняли бадью, подвешенную под треножник, весовщик, ловко орудуя маленьким совочком, выгребал из нее столько, сколько нужно было, чтобы стрелка весов достигла центра и замерла. Потом он одним легким движением высыпал содержимое бадьи в подставленный грузчиком пустой мешок, и, пока тот завязывал его, взваливал на плечи и выносил к поджидавшей у дверей амбара подводе, бадья уже снова заполнялась, совочек уже снова выгребал лишнее, и другой грузчик уже стоял наготове с открытым мешком. Все эти быстрые, точно рассчитанные движения производились в едином ритме: живей загребай, насыпай, взвешивай, подставляй мешок, высыпай, завязывай, давай новый мешок, быстрей, живей, и так без конца в туче пыли, заполнявшей весь амбар, особенно густой и едкой в том месте, где стояла кадка весовщика. Пыль лезла в глаза, в нос, в уши, за ворот рубашки; смешивалась с потом и превращала лица работающих в страшные серо-грязные маски; пыль мешала видеть, разговаривать, дышать. Вот о чем умолчал Красовский – очевидно, он считал пыль обстоятельством, не относящимся к работе. Но как раз это-то и оказалось самым главным, самым трудным и непереносимым. Подавальщики, весовщик, грузчики работали со слезящимися глазами, но с какой-то зловещей веселостью, в которой не было ничего веселого. Я же стал задыхаться, и мне казалось, что пыль забирается не только в рот, нос и легкие, но и в мозги: я перестал соображать, перепутал простейший счет, выписал неправильную накладную, после чего получил из порта ругательную записку, нацарапанную карандашом маленькими, расползающимися каракулями. «От самого», – сумрачно сказал передавший мне записку возчик, подразумевая шефа «Черной банды», но мне уже было все равно, только бы выйти наконец из этого амбара, только бы выхаркаться, выплюнуть из себя проглоченную грязь, только бы попасть наконец домой, где меня ждет теплая вода, чистая рубашка и горячий обед. Но домой я пришел в таком состоянии, что, успев помыться и проглотить чашку чая, упал на постель одетый, со слезящимися глазами, с пылающим лицом, звоном в ушах и ощущением пустоты в сердце.
Четыре дня я пролежал в лихорадке, с высокой температурой, видя перед собой тучи пыли, блестящий совочек, бадью с зерном и черную голову Цаниса. А еще через три дня я уже снова как ни в чем не бывало стоял утром на тротуаре перед конторой «Черной банды» и ждал вместе со всеми, когда откроется ненавистное, но уже знакомое, привычное и ничем не удивляющее страшное окно.
После двух недель работы в амбарах Цанис стал посылать меня в порт. Работа здесь была другая: стоять на палубе парохода у открытого трюма по восемь-девять часов и контролировать вес непрерывно высыпаемых туда мешков с зерном. И за это платили уже не какие-нибудь 200 лей в день, а целых 250.
Здесь была та же едкая, густая пыль, что и в амбарах, но я увидел, что «лопатарам», залезающим в трюм с маленькими деревянными лопатками для разгребания зерна и мокрыми тряпками для защиты глаз, рта и носа, хуже, чем мне. Здесь были еще и ветер, и солнце, и дождь, надо было выстаивать весь день на открытой палубе, но я увидел, что грузчикам, поднимающимся с тяжелыми мешками на плечах по шатким и скользким мосткам, повисшим над водой, приходится еще трудней.
Корабли, на которых я работал, прибывали из далеких стран; в другое время я был бы счастлив сюда попасть. Но теперь, выстаивая долгие часы на закрепленной болтами кровле этих стальных домов, я не чувствовал любопытства. В свободные минуты я прохаживался иногда по палубам, взбирался по стальной лесенке на мостик, заглядывал в машинное отделение, похожее на гигантский зал, уставленный сложными механизмами, вызывающими удивление; да и весь корабль, сооружение, собранное из десятков тысяч деталей, аккуратно и точно пригнанных, прикованных друг к другу болтами, винтами, цепями, – это чудо кропотливого труда и точного расчета, которое в другое время вызвало бы во мне восторг и поток самых разнообразных мыслей и ощущений, – теперь меня не волновал. Усталый, озябший, с отекшими пальцами и тяжелым комом в горле, я смотрел с полным безразличием на иностранные флаги – разноцветные лоскуты материи с нашитыми или нарисованными на них линиями, звездами, кружками; не удивляясь, медленно перечитывал названия далеких и неизвестных мне портов. Все корабли были теперь для меня одинаковыми и отличались друг от друга только количеством часов, проведенных мною около их зияющих трюмов, откуда беспрестанно, как из огромной трубы, валила пыль, не менее едкая, не менее горькая, густая и черная, чем фабричный дым.
Иногда я рассеянно наблюдал за работающей на палубе командой – это были люди с загорелыми лицами; среди них попадались и курчавые, кряжистые негры с блестящими маслинами добрых, детских глаз, и маленькие китайцы, и удивительно ловкие малайцы, и представители других, никогда не виданных мною рас и наций. Они работали, смеялись, курили в нескольких метрах от меня. Надо было только подойти поближе, внимательнее посмотреть на их темные лица, на вылинявшие, просоленные спецовки, чтобы почувствовать запахи морей и океанов всех частей света: от них веяло и жарким экватором, и холодом Ледовитого океана, и волшебным бризом коралловых островов, но для меня существовал только запах пыли и пота, только шершаво-холодные, тяжелые гири, только повторяющиеся однообразные подсчеты в уме: пять мешков по 80-400, а здесь 380 – надо послать предупреждение, еще раз проверить, сообщить Цанису.