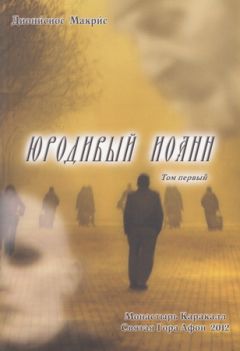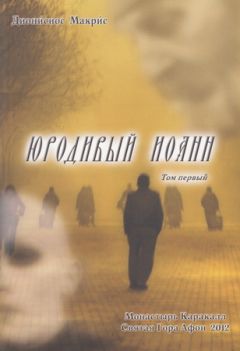Илья Константиновский - Первый арест
Чтение бухарестского «Социализма» и первые сведения о существовании Румынской социалистической партии и товарища Флуераша, добивающегося доверия Его Величества, мало способствовали тому, чтобы я связал волновавшую меня идею социализма с окружающей меня будничной жизнью. И так продолжалось до того дня, когда мне самому пришлось начать зарабатывать на жизнь.
«Черная банда»
Первый заработок! Счастливая усталость первого труда! Первое ощущение гордости от того, что ты уже взрослый и можешь располагать заработанными деньгами. И первое горестное открытие: вознаграждается не только труд в поте лица, но покорность, хитрость, лесть и послушание примерного галерного раба!
Свой первый заработок я получил в отделении фирмы, наблюдавшей за погрузкой зерна. Помещалось оно там же, где и все остальные частные конторы и отделения крупных торговых домов, занимавшихся экспортом хлеба, – на центральной улице, недалеко от порта. Внешний вид контора имела такой же, как и все конторы: была и дощечка на дверях с обозначением полного наименования фирмы, но никто его не знал, потому что известно было другое, неофициальное, но всеми признанное название этой организации: «Банда нягра» – «Черная банда». Известно оно было и мне, но подлинный его смысл и неожиданная связь между «Черной бандой» и открытием, сделанным мною после чтения старых книг Снитовского, обнаружились гораздо поздней, когда я сам переступил порог этого учреждения. Впрочем, на самом деле никто не переступал порога конторы «Черной банды»: все операции по найму и расчету, все взаимоотношения фирмы с ее работниками, которых брали здесь на работу каждый день, только на один день, а то и на полдня, осуществлялись на улице, перед открытым окном конторы. Путь к этому окну был непростым. Право стать под окном «Черной банды» и получить работу давалось далеко не каждому. Вот как это случилось со мной.
Как-то жарким июньским утром я заметил, что отец, закончив длинную утреннюю молитву, надевает белую манишку, запонки, галстук и черный люстриновый пиджак, служившие явным признаком того, что предстоит важное событие. Вскоре мне было сказано, чтобы я разыскал «малокровного».
Это был извозчик – не менее известная в городе фигура, чем первый богач или доктор, владелец единственного в городе мотоцикла, ездивший к больным в спецовке, пропахшей бензином, с черными, перепачканными машинным маслом руками. Сколько я помню город и в школьные годы и много лет поздней, когда я приезжал сюда на каникулы из университета, помню я и черную развалившуюся пролетку, тощую, сгорбленную, подпоясанную широким ремнем фигуру на козлах и усталый, дребезжащий, как и несмазанные колеса его старинного экипажа, голос:
– Вье… малокровные!.. Ноо… малокровные!..
Итак, в одно прекрасное знойное июньское утро я привел к дому «малокровного».
Отец уселся на провалившееся рыжее сиденье, положил рядом с собой палку и стал ждать, пока лошади примут какое-нибудь решение по поводу повторного, но очень робкого и неуверенного приказания своего хозяина:
– Ноо… малокровные!..
Никогда не известно было заранее, какое это будет решение, и каждый раз, когда «малокровные» после двух-трех минут раздумья все же решались двинуться с места, они делали это с таким неохотным фырканьем, словно говорили хозяину: так и быть, поедем, но – смотри! – чтобы это было в последний раз!
Менее чем через час около дома снова раздался знакомый голос: «Тпру… малокровные!» – и отец с сияющим лицом вошел в дом и, сразу же садясь, объявил мне благую весть: мне разрешено приходить к окну конторы «Черной банды» и получать работу, если мне ее дадут. За эту милость я должен благодарить бога и господина Вуроса-старшего – того самого, кому принадлежат в городе десятки домов, лавок, амбаров, а ест он по вечерам селедку с хлебом, ибо только так и делаются миллионы, когда экономят каждую копейку; и еще я должен быть благодарен покойному дедушке, который был уважаемым лицом в городе, господин Вурос-старший тоже его уважал и согласился поговорить обо мне с Цанисом из «Черной банды», так что я могу хоть завтра отправиться в контору и получать по 200 лей в день, – посчитай, сколько это выходит за все лето, при двадцати шести рабочих днях в месяц!..
Я, не став терять времени на подсчеты, отправился к нашему дальнему родственнику Красовскому, уже не первый год работавшему в «Черной банде». Он обещал обучить меня ремеслу «приемщика». Дело оказалось до того пустяковым, что я даже расстроился. Надо было знать таблицу умножения. «Приемщик» стоит в амбаре, откуда грузят зерно, и ведет счет: 10 мешков на каждой подводе, по 80 кило – составляет 800, помножить на четыре подводы на рейс – 3200; выписывается квитанция и заносится в рапортичку. Примерно двадцать рейсов в день составляют 64 тысячи кило. Из каждого амбара берется определенное количество тонн, указанных на квитанционной книжке. Знай себе умножай, записывай и следи за тем, чтобы не было взято ни одного лишнего килограмма. А вечером получал свои 200 лей, что при тринадцати рабочих днях в месяц, если считать только половину того, на что надеялся отец, тоже получается кругленькая сумма в 2600 лей. При таких заработках можно будет, пожалуй, за лето не только собрать деньги на право учения в гимназии, но еще позволить себе выписать из Бухареста учебник эсперанто; давно пора этим заняться, – эсперанто принадлежит будущее. Подсчитывая в уме свои предполагаемые доходы, я вспомнил смутно сохранившийся в памяти образ старика с белой бородой и черными блестящими сапогами. Все-таки приятно иметь дедушку, которого все уважали.
Славный, наверное, был старик!
Получайте работу, если вам ее дадут На другой день я вскочил чуть свет, готовый к немедленным трудовым подвигам, и, наспех проглотив завтрак, ринулся по Большой Дунайской улице туда, где стояли у причала белые пароходы с черными трубами, и черные пароходы с белыми трубами, и рыжие шлепы и зеленые танкеры, прибывшие из отдаленных, неведомых стран; туда, где сильные загорелые грузчики, возчики и весовщики уже собирались у своих контор, где приказчики уже открывали каменные амбары, бухгалтеры выписывали наряды, хозяева уже подсчитывали барыши; туда, где гудели лесопилки и начинался длинный, потный, но веселый трудовой день, в котором я тоже должен был принять участие на равных правах со взрослыми, а вечером прийти домой, съесть подряд две порции сладкого – он голодный, он работал, – потом выйти на улицу и на вопрос товарищей, где я пропадал целый день, небрежно ответить: «Работал!» – и посмотреть на их удивленные, почтительные лица.
С такими, а может быть и не совсем такими, мыслями мчался я галопом по Большой Дунайской, потом перешел на рысь, потом снова на галоп, уверенный, что буду на месте первым, но оказалось, что у дома, где помещалась контора «Черной банды», уже собралось человек пятнадцать, а то и больше, а каждую минуту подходили все новые и новые претенденты на предназначенную для меня работу.
Все выше и выше поднималось еще не жаркое солнце, на улице пахло утренней свежестью, как-то особенно нежно ворковали голуби и с какой-то особенной бойкостью прыгали по тротуару воробьи, но люди, собравшиеся перед закрытой дверью конторы, стояли почему-то грустные, молчаливые. Я заметил, что они не здоровались, когда подходили к конторе, никто ни с кем не разговаривал, и на всех лицах застыло такое выжидательно-тоскливое выражение, что и мне стало не по себе. Многих из этих людей я знал в лицо и по имени, но никогда не задумывался над их жизнью. Теперь, когда я рассеянно вспоминал то, что я знал и мельком слышал о каждом, все эти как будто знакомые и все же незнакомые люди предстали вдруг передо мной в новом свете.
Нетрудно было заметить, что здесь собрались, как на подбор, слабые, потерпевшие крушение, выброшенные за борт. Вот этот согнутый старик с опухшим землистым лицом недавно потерял последнего сына после того, как уже пережил жену, дочь, и теперь остался один, совсем один, без постоянного заработка, без надежд; а стоящий рядом бледный долговязый молодой человек обречен на раннюю смерть: он болен неизлечимой болезнью, все это знают, и он сам знает, но работать все же нужно, хоть впереди ничего нет; толстяк с сумрачно презрительным лицом – разорившийся коммерсант, в недалеком прошлом один из богатейших людей в городе; тот, что стоит у акации в изодранном пиджаке, – запойный пьяница, а зеленый, узловатый и скрюченный с рыжими лохмами – эпилептик.
Боже, сколько несчастных людей живет в городе!
Раздался треск внезапно распахнувшегося в конторе окна, все бесшумно и молча продвинулись поближе и стали вокруг него, как на групповой фотографии: каждый занял такое место, чтобы его не заслонил сосед. Я взглянул в окно и увидел Цаниса, управляющего «Черной бандой».
Мне показалось, что я довольно хорошо знаю этого человека – я встречал его на Большой Дунайской почти каждый день. Но здесь он был другим, совсем другим. Эта черная, с коротко остриженными волосами голова, эти сумрачно-презрительные глаза были неузнаваемы; человек этот казался теперь выше, чернее, злее и, главное, значительным, почти величественным. Даже не взглянув на ожидающую толпу, предводитель «Черной банды» сел на стул, кем-то услужливо придвинутый к окну, положил на белый, горящий от солнца подоконник пачку квитанционных книжек и приступил к еще никогда не виданному мною простому, но страшному делу.