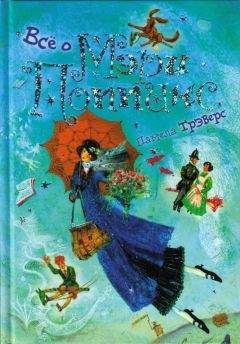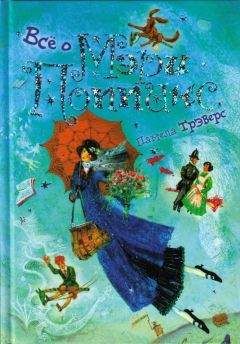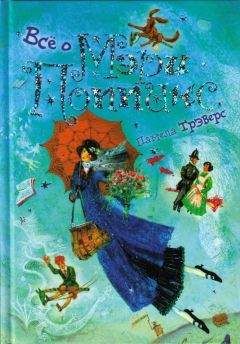Вера Колочкова - Из жизни Мэри, в девичестве Поппинс (сборник)
Так она и поселилась в одночасье в этой огромной пятикомнатной квартире с высокими потолками и большими арочными окнами и прожила в ней следующие положенные жизнью тридцать пять лет – вроде много, а как пролетели-то незаметно. А тогда, в первый же свой проведенный здесь день, устав от хлопот по уборке-стирке-готовке и присев на тот же стульчик возле кровати Софьи Андреевны, она вдруг услышала старательно ею произнесенное:
– Иди к нему…
– Что? Что вы говорите?
– Иди к нему! – сердясь и краснея, с трудом проговорила Софья Андреевна, показывая здоровой рукой в сторону Борискиной комнаты. – Ну?!
– Что вы… Зачем это? Он спит уже, наверное! – забормотала она испуганно, хотя как-то сразу поняла, для чего она ее туда посылает.
– Иди! Ну! Он же ждет.
– Да как же, Софья Андреевна, неправильно это…
– Иди, иди, Машенька! Он и в самом деле ждет – говорили мы с ним…
На ватных ногах, ничего не видя перед собой, дошла до двери Борискиной спальни и даже постучала-поскреблась вежливо дрожащей рукой. Сглотнув от волнения воздух, потянула на себя дверную ручку, тихо вошла и остановилась, пытаясь сквозь темноту разглядеть хоть что-то.
– Ну, чего ты, как не родная… – прозвучал из другого конца комнаты его грустно-насмешливый голос. – Раздевайся, ложись давай. Матушку мою все равно не переспоришь. Знает ведь, что я теперь ей возразить не смогу… Иди сюда, Маша…
– Так, наверное, не надо ничего такого, Борис. Давайте я вот тут в кресле лягу, оно же раскладывается, кажется.
– Как это – в кресле? Нет уж! Ты чего, испугалась? Не бойся!
– Ну что вы…
– И перестань выкать! Я тебе кто? Я тебе с сегодняшнего дня муж, можно сказать, а не посторонний какой человек! Вот такие дела, Мария моя ненаглядная… Иди сюда! Ну?
– Я не могу так…
– Как?
– Вот так, сразу…
– О господи… Что ты как девчонка малолетняя – цену себе набиваешь, что ли? Или… Постой! У тебя вообще мужик-то был когда-нибудь?
– Нет…
– О господи! Вот это я влип так влип…
Даже сейчас, по прошествии долгих тридцати пяти лет, она покраснела и стыдливо уткнулась в подушку, вспомнив ту первую их с Бориской ночь. Какой же она неуклюжей бабой оказалась – и смех, и грех… А Бориска молодцом проявился и сразу духом будто воспрял, настоящим мужиком себя почуял рядом с ее перепуганной неуклюжестью, и обращаться с ней стал этак свысока да ласково-насмешливо, как со своей, с близкой. Софья Андреевна просто нарадоваться на него не могла. А только по-настоящему жениться Бориска не захотел ни в какую. Уж как мать его уговаривала, как сердилась – нет, и все. Это уж потом он сподобился, когда померла она. Так уж сложилось – надо было обязательно пойти да и расписаться. Они ведь пять лет уже вместе прожили, пока померла Софья Андреевна. Привыкнуть она к нему успела, полюбила даже. И Бориска быстро привык к обиходу, к пирогам да к чистым рубашкам и к характеру ее тихому да беззлобному. Куда пошел да откуда поздно заявился – никогда у него не спрашивала, как другие бабы делают. А только как померла Софья Андреевна, маетно ей стало там жить. Испугалась чего-то. А что? Было ведь чего бояться-то. Бориска – парень видный, мог бы запросто себе какую-никакую молодуху в дом привести. Вот и пошла она к своим советоваться – как же ей теперь дальше свою жизнь определять? А мачеха с сестрицей Надей на нее вдруг глаза вытаращили – ты чего, мол, Мария, с луны свалилась? Они еще год назад ее, оказывается, из квартиры выписали. Настенька, дочка Надина, тогда замуж вышла, и мужа ее прописывать никак не хотели – народу, мол, и так много на их убогих квадратных метрах числилось. Вот они ее и вычеркнули и даже не сказали ничего. Чужая она им, одно слово. Как ни старалась своей стать, а все равно чужая. Вернулась от них – заплакала, потом Бориске все и рассказала, как есть. Вот тогда он и решился на все это – и женился, и прописал в хоромах своих пятикомнатных. Сгоряча, конечно, решился, от обиды на ее родню: раз, мол, такие вы сволочи, так нате вам. Раз метров квадратных своих пожалели, вот и обзавидуйтесь теперь – у Марии, жены моей, этих самых метров будет – хоть выбрасывай. Только вот фамилию свою взять не разрешил, так и жили дальше: он – Онецкий, она – Потапова. Такой он и был, Бориска, весь в этом. Царствие ему небесное, хороший был мужик. Только что ж ей теперь в этих метрах-то делать, блудить в них, что ли, как в лесу, целыми днями. Такая квартира огромная – и она одна в ней всего и прописанная.
Тяжко вздохнув, она медленно разомкнула набрякшие от слез веки. В комнате было уже совсем светло, как может быть светло туманным ноябрьским утром: тускло-серо да неприютно, какой уж там свет.
В тоскливую тишину квартиры вдруг ворвалась пронзительно-трескучая музыка дверного звонка – надо же, пришел кто-то. И про нее вдруг вспомнили – надо же. А она лежит тут, слезами подушку мочит и даже булочек утренних не напекла – вот стыдоба какая. Гости к ней, а у нее и булочек нет…
* * *– Тетя Маша, случилось что? Почему не открывали так долго? – спросил от порога Славик, аккуратно расстегивая молнию на мокрой кожаной куртке. – Я уж волноваться начал…
– Заходи, Славик. Сейчас я чаю сделаю.
– Да я ненадолго, тетя Маша. Я, собственно, на минуту, по делу.
– Проходи на кухню! Я сейчас. Какие дела от порога делаются?
– Да? Ну хорошо.
Славик аккуратно снял начищенные до блеска ботинки, так же аккуратно поставил их на полочку – носами к стене, пяточка к пяточке. Пригладив у зеркала реденькие прядки длинных, будто салом смазанных волос, продольно закрывающих большую шишковатую лысину, прошел на кухню и сел на стул, предварительно со вниманием осмотрев его сиденье.
Почему-то не любила она Борискиного племянника. Вот не любила – и все тут. Сама себе не могла объяснить этой своей неприязни. Вроде мужик как мужик – молодой, аккуратный, вежливый. Потому и старалась изо всех сил всегда быть с ним поласковей – не дай бог, догадается.
– Славик, тебе чаю покрепче? А может, ты есть хочешь? Так я быстро яичницу спроворю!
– Нет, тетя Маша, не надо яичницу. Я вот, собственно, зачем пришел… Надо бы с квартирой что-то срочно решать, тетя Маша.
– А что решать? – оторопело уставилась она на него.
– Ну, вы же здесь одна теперь прописаны. Мало ли! Случись с вами что – и пропадет квартира.
– Ну да, ну да… – согласно закивала она ему, наливая заварку в большую чашку с яркими золочеными цветами.
– Это хорошо, что вы все правильно понимаете, тетя Маша. Квартира эта моя по всем законам, так ведь? Всегда в ней только Онецкие жили! И бабушка с дедушкой мои, и дядя мой. Вы-то вообще случайно здесь оказались. Кто ж думал, что дядя Борис раньше вас… И предполагать не могли. Просил же его – приватизируй быстрей да завещание напиши! А он все – потом, потом…
– Да что-то я не припомню, Славик, чтобы он тебе обещал чего. Ты и племянником-то ему только двоюродным приходишься. А я здесь, слава богу, уже тридцать пять лет живу.
– Ну и что? – напрягся вдруг Славик. – Что вы этим хотите сказать?
– Да ничего, ничего. Ты прописаться, что ль, хочешь?
– Ну да… Как член семьи. А потом приватизировать ее сразу на меня надо. Чего ее по долям делить? Хлопоты одни… Я вот уже и бланк специальный заполнил, вам только расписаться надо – вот тут и вот тут.
– А меня куда, Славик? На кладбище свезти?
– Ну зачем вы так? Как были прописаны в ней, так и будете прописаны. Как жили, так и будете жить. Даю вам слово порядочного человека…
– Хорошо, Славик. Вот сорок дней отведем по Борису, дядюшке твоему, и пойдем – пропишу я тебя.
– Так это что, через месяц только?
– Выходит, через месяц.
– А раньше нельзя?
– Нет. Соберемся все на поминки – только самые близкие, – тогда и решим.
– Да что, что решим-то? И так ведь все понятно! – начал раздражаться Славик. – У дяди Бори, кроме меня, и нет больше никого!
– Вот и хорошо, вот и ладно… Ты пей чай, Славик! Остынет.
– Да некогда мне! Тетя Маша, я ведь к вам с другого конца города еду не просто так… На улице дождь, между прочим, и холодно! Мне что, больше делать нечего? А вы – чай… Давайте лучше сходим в паспортный стол, от вас заявление примут – и все.
– После, Славик, после…
Он снова с силой провел рукой по приглаженным на шишковатой лысине волосам, будто пытался впечатать их туда намертво, выпил залпом остывший чай, улыбнулся ей через силу одними губами.
– Ну хорошо, тетя Маша. Спасибо, пойду я…
Вот не любила она его! Вроде и прав он во всем, и в самом деле у Бориски он один и есть племянник, хоть и двоюродный, а не лежит душа. Потому и уперлась с этой пропиской – сроду так ни с кем не вредничала. И вообще, у нее и своих племянниц двое имеется – Настенька и Ниночка, дочки ее сестер сводных, Нади и Любы. Может, им тоже надо.
Проводив Славика, она вернулась на кухню, села за стол, снова задумалась. Вот ведь как господь рассудил странно – и Надю, и Любочку давно уже к себе прибрал, а она все живет и живет. А ведь старше их на пять лет почитай, и нянькой им обоим честно выслужила… Ее тогда уже десятилетнюю отец из деревни привез в новую свою семью – у него на заводе квартиры в новом доме для передовиков производства распределяли, а с ней, с Марией, семья получалась уже как бы и многодетная. И дали им тогда не просто комнату в коммуналке, как всем, а целую квартиру. Да еще и двухкомнатную – настоящая роскошь, невиданное счастье по тем бедным временам. Хотя и не понимала она тогда ничего такого, в деревне выросла с самого своего рождения, и школу-четырехлетку там же окончила. В тягость ей была вся эта городская жизнь, так хотелось в свои родные вятские Фалёнки вернуться. Отец ее туда, к дедушке с бабушкой, совсем крохой привез, потому как померла его первая жена, ее, стало быть, родная мать, в родах. Как довез живую – одному только богу известно: молока-то ему в роддоме дали в дорогу, да скисло оно сразу. Бабушка рассказывала – и не надеялись, что она выживет. Отец, как ее привез, так больше и не появился в деревне ни разу, только письма слал, в которых с гордостью новой женой похвалялся, учительницей музыки – профессия для деревни по тем временам и правда неслыханная. И про народившихся в новом браке дочек-погодок писал – Наденьку и Любочку… А через десять лет и сам заявился – чтоб, значит, в город ее с собой увезти. Она тогда впервые его и увидела. И было это в мае сорок первого года…