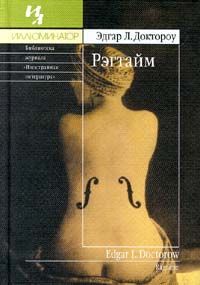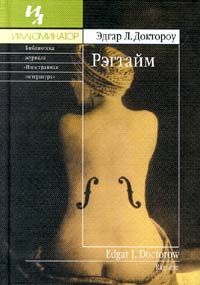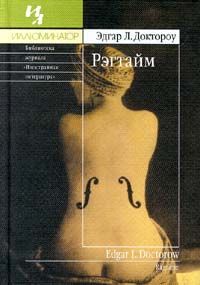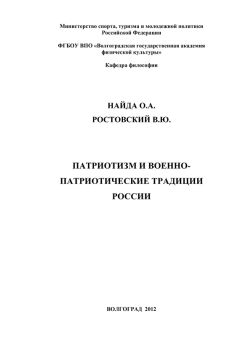Гарри Гордон - Поздно. Темно. Далеко
Решив, что мужчины на сорок минут не опаздывают, Владимир Сергеевич купил ксерокопию Оруэлла «1984» за двадцать пять рублей и поехал домой в нетерпении. В трамвае, разумеется, читать было нельзя.
— С тех самых пор, как все тут с ума сходили, Плющ не появлялся, — сказал бармен Аркадий. — Спроси еще кого-нибудь.
«Странно», — думал Ройтер. Вот уже пятый день он таскал при себе деньги для Плюща, не то чтобы обещанные, но, понимал Ройтер, необходимые Костику. Деньги носить было неприятно, они жгли карман, и, появись сейчас кто-нибудь хороший, прожгут обязательно.
Кроме того, встретившийся вчера Дюльфик хвастал, что пробил в Союзе халтуру для Плющика, на свое, правда, имя, шесть сказок на холсте восемьдесят на шестьдесят, по сто двадцать рублей за штуку, впополаме, пусть Плющ правильно поймет. Работа проходила как творческая помощь, и когда теперь Дюльфик еще за ней обратится.
Сказки эти предназначались для райкомовских детских учреждений.
Была и еще причина, по которой надо найти Плюща: Афиногенов завтра уезжает по израильскому вызову, собирает сегодня отходняк.
Марик медленно шел по Пушкинской в сторону бульвара. Далеко внизу, под бульваром, за Приморской улицей, за переплетением подъездных путей, над морем происходило балетное действо. Оранжевые краны становились на пуанты, подбегали, подхватывали что-то черное буксиры, на синей волне плясал кордебалет яхт в белых пачках…
— Па-де-де? — скромно спросили сзади. Марик вздрогнул от неожиданности, а больше от жуткого проникновения в его состояние.
— Что? — переспросил он Морозова, подъехавшего с коляской и улыбающегося.
— Па-де-де, говорю, — объяснил Морозов. — Это значит, на двоих.
— Да нет, не хочется, — вздохнул с облегчением Ройтер.
— А кому когда хочется, — засмеялся Морозов. Под скрип немазаных колес Морозов объяснил Марику, как найти мастерскую Плюща.
— Афиногенову привет, — сказал он, попрощавшись, сворачивая возле Дюка на Екатерининскую площадь.
Найти мастерскую оказалось нетрудно. Все подвальные окна старого доходного дома были темными и немытыми, в некоторых были разбиты стекла, и только одно было занавешено портьерами из кремового подкладочного шелка. Ройтер вошел во двор. Свежеокрашенная зеленая дверь была заперта изнутри. Постучавшись безуспешно в эту слегка липнувшую дверь, Ройтер вернулся к окну. Никто не отозвался на брошенные камешки. «Ладно, спит так спит, — решил Ройтер, почувствовав себя свободным. — „Па-де-де“, — вспомнил он изысканного Морозова. — Какая жалость, что я не купаюсь в море. Сел бы сейчас здесь неподалеку в девятый трамвай и поехал бы в Лузановку. Лег бы на воду и задремал. Как они лежат на воде?»
Марик едва умел плавать, его укачивало. Можно бы и просто побарахтаться в прибрежной волне, но явить загорелым купальщицам в презрительных темных очках свое бледно-голубое тело — это уж слишком. «Нет, не доставлю я им такого удовольствия», — мстительно усмехнулся Марик.
К Афиногенову идти не хотелось, но и не попрощаться никак нельзя. Боже мой, кто придумал эти поминки!
Сам покойник, здоровый и нахальный Афиногенов, полон оптимизма. Да он никогда и не расстраивался, даже по пустякам. Черноволосый, с родинкой на белой щеке, Афиногенов нравился женщинам, принимал это как должное, не радуясь особенно и не печалясь.
Пережив период буйного натурализма, внезапно ударился в сюрреализм, и писал мастеровитые, холодные и бессмысленные картинки, недостойные его темперамента.
Устав от работы, Афиногенов охотно влюблялся. Он добросовестно и терпеливо ухаживал, с цветами, ресторанами и концертами в консерватории, не торопясь и не торопя, находя в этом процессе творчество, только более легкого жанра. Победив избранницу, он официально просил ее руки у родителей и приглашал знакомых на свадьбу.
Когда рождался младенец, Афиногенов забрасывал все дела, стирал, готовил, бегал по утрам на молочную кухню. Так проходил год. Отпраздновав день рождения ребенка, Афиногенов собирал вещи, и уходил.
Поначалу это казалось скандалом, или драмой, а может быть, и трагедией. Но Афиногенов в конце концов убедил всех в своей серьезности, и главное — вменяемости, когда повторил все эти операции пять раз на протяжении восьми или девяти лет. Его зауважали не на шутку, все, в том числе и брошенные жены. Почти со всеми из них Афиногенов дружил по сей день, и все они с детьми, разумеется, соберутся сегодня вечером на проводы. Причины эмиграции были темны: Афиногенов жил хорошо — делал что хотел, его любили в Союзе художников, и коллекционеры покупали его работы.
Для отъезда Афиногенов влюбился в пианистку Фаину, красивую женщину с профилем Нефертити, и женился на ней, не скрывая своих намерений. Уверенная в себе Фаина улыбалась чему-то, известному ей одной.
«Зачем такую красивую женщину увозить из страны, — печалился Ройтер, — увез бы лучше Риту». Рита была первая жена Афиногенова, модель и героиня его натуралистических ню.
Скорее всего, Афиногенов будет читать письма Ситникова из Парижа и уговаривать Марика не медлить с отъездом, благо ему и жениться для этого не надо. Мама? А что мама? именно о маме и надо подумать. Чем ей плохо будет в Израиле, или, скажем, на Брайтоне. В конце концов, Марику пора отделаться от этой жабы Гальпериной, которая, к тому же в последнее время таращится на него женскими, насколько возможно, глазами.
Так вот, пусть Афиногенов не гонит, потому что, по слухам, Гальперина и собирается как раз в Израиль. Хорошо бы, но что будет с работой?.. Впрочем, что-нибудь да будет. Афиногенов молодец, Марику предлагает Израиль, а сам едет в Париж.
«Подарить им что-то надо, — с тоской вспомнил Ройтер, — что-нибудь маленькое, невесомое и не представляющее художественной ценности. Задача неразрешимая, не дарить же ему штопор».
— Марик, что-то мне так темно, — сказала мама.
— День такой, мама, — ответил Марик, — пасмурный. Поспи еще.
Он встал на стул и снял со шкафа коробку с кинокамерой. Любительская эта камера чуть ли не первого отечественного выпуска была куплена им возле Привоза у ханыги за пятнадцать рублей. С ее помощью хотел было Марик снять фильм «за Одессу», непредсказуемый и веселый, но половину замысла выболтал на перекрестках, вторую половину сам же и высмеял.
Марик вышел на террасу, опоясывающую двор, и сел на посылочный ящик у зеркального шкафа, выставленного соседями. Чем не подарок! В чистеньком своем Париже, на пижонской ли Ривьере будет смотреть Афиногенов на одесский дворик и плакать об утраченных русских березках.
Неужто и вправду бывает такая лобовая, кондовая ностальгия? Разве недовольство наше всем этим набором несовершенств, всем этим заливистым враньем, хамством, всеобщей, всепоглощающей халтурой не есть тоска наша по себе, задуманному Божьим промыслом, легком и простодушном, как березка… Марик представил себе березку с еврейским носом и рассмеялся, искоса глянув в зеркало шкафа.
Двор был пуст, в нем ничего не происходило. Из темной арки подъезда вышла, вспыхнув на солнце, рыжая кошка и пошла вдоль стенки неторопливо, останавливаясь и оглядываясь. Марик стал снимать. Кошка посмотрела в упор, прямо в объектив, смутив на мгновение оператора.
Раскрылась дверь напротив, на террасу второго этажа вышел Гриша в тренировочных штанах и с женской грудью, вытряхнул во двор какую-то тряпочку, из которой посыпались бумажки и кусочки, внезапно увидел кинокамеру, отпрянул, как от струи, и, закрывая изнутри дверь, погрозил Марику кулаком.
Растопырив руки, с ужасом на личике вбежала во двор девочка лет девяти, подлетела к водопроводной колонке, и стала мыть, тихонько подвывая, ободранную коленку. Робко вошел во двор человек в темном костюме, по виду приезжий, может быть отдыхающий шахтер, повертел головой и, увидев в углу черную по извести надпись «Туалет не работает, штраф десять рублей», ринулся туда.
«Уже что-то», — подумал Марик. Затем распахнулось окно слева, на третьем этаже, в темном проеме показалась пожилая женщина с седой завивкой. В руке у нее висело что-то продолговатое.
— Фира, — сказала она басом в пустоту двора, — я вас спрашиваю. Разве это утка? Это же Мая Плисецкая!
— Ой, не говорите, мадам Китис, — отозвалась справа невидимая Фира. — Дурят нашего брата…
«Нет, здесь нужен магнитофон, — засмеялся Марик, — а нужен ли?» Внезапно Марик почувствовал себя скверно. Он представил себе, как хихикает, глядя на все это, веселый парижский баран-экспрессионист, приговаривая какое-нибудь «тре бьен» или «се жоли». «Засранец, — ругал себя Ройтер, — мародер».
Пусто и тихо было во дворе. Только в кроне большого ясеня тосковала на одной ноте горлица. Марик сполз с ящика на пол, прислонился к стене и стал снимать сверкающую крону.