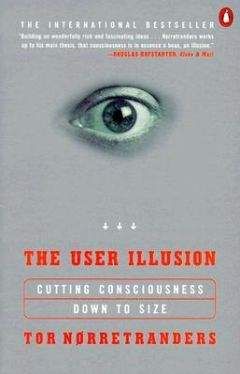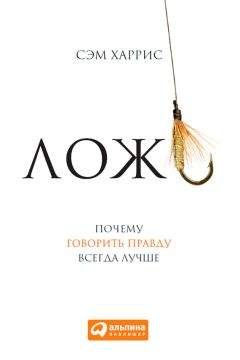Эфраим Баух - Оклик
– Тебе уже девять лет, котик, – говорит отец, осторожно выпрастывая бледную, как воск, руку из-под одеяла, с опаской касаясь моей головы. Я молча киваю, я не говорю ни слова, только пальцами задерживаю его руку на своей голове, горячую и сухую, словно бы, сам того не осознавая, принимаю на всю жизнь его молчаливое благословение.
– Мы еще погуляем у тебя на свадьбе, сынок, – деланно бодрым голосом говорит мама.
– Несомненно, – не менее бодро говорит отец, откидываясь в изнеможении на подушку.
В начале февраля бабушка возвращается домой, рука ее, запеленутая в бинты и тряпки, кажется раздувшимся младенцем. Стоят страшные морозы: на улице стягивает ноздри, приходится дышать в башлык или шарф, вода, выплеснутая из кружки, замерзает на лету. При таком морозе воздух дымится белым туманом. Вношу с собой в палату холод, все больные только при моем виде ежатся, накрываются одеялами, улыбаются беспомощно и завистливо.
Принеси мне "Записки Пиквикского клуба" Диккенса из библиотеки, – говорит отец.
Непременно, – говорю я. Но книга, оказывается, на руках. На другой день меня не пускают в палату: обход. Мама уходит в больницу на ночь. С утра поземка скребет по земле, звук двери, открываемой в сенях, разрывает слух скрежетом, вода в ведрах с ночи замерзла, приходится разбивать лед, кусками греть в казанке. Прямо из поземки, тихая, как привидение, возникает мама, нездешняя улыбка блуждает на ее губах; совсем слабым, но таким певучим голосом говорит бабушке:
Момы, Исакалэ из гешторбн…[9]
И в этот миг все во мне заледеневает. Дальнейшее длится, как в ледяном полусне: где-то, на кладбище, никак не могут разбить замерзшую, твердую, как камень, землю, решают разрыть относительно свежую чью-то могилу, которую намеренно копали глубже, чтобы новый гроб поставить на старый; мама ведет меня по каким-то с трудом узнаваемым переулкам; на санях стоит узкий, неожиданно длинный гроб, уже заколоченный, мама садится рядом с возчиком, а я за неимением места – на край гроба, скользим в белом тумане, вокруг в полдень ни души, облегло нас вплотную медленно шевелящееся ледяное пространство, и так как я мертвым отца не видел, я думаю, что вот мы должны куда-то довезти этот деревянный ларь, постараться в дороге не замерзнуть и вернуться, и я тут же побегу в библиотеку, где мне обещали "Записки Пиквикского клуба", ведь папа ждет-не дождется этой книги в больнице.
Из клубящейся стужи возникают два закутанных в сотни лохмотьев силуэта с некими подобьями кирок в руках. Я стою над краем ямы, в глубине которой поблескивает, обледеневая на глазах, крышка нижнего гроба. Опускают, боясь оскользнуться, чертыхаясь на погоду, в бога, мать и крест, хотя вокруг торчат лишь одни палки с дощечками, и это, по сути, последние слова отпевания, замерзающие в воздухе на лету. Гляжу на дощечку с именем отца, датами рождения и смерти (1904 – 27.2.43), выведенными чернильным карандашом и все думаю о книге, которую должен отнести отцу.
И никакого оклика.
Разве голос Ангела может дойти сквозь такую смертную стужу?
7
У мамы и бабушки утром постоянный ритуал: проснувшись, рассказывают друг другу, что кому снилось. Обычно сплю, накрывшись с головой, только нос торчит наружу, но все слышу из-под одеяла, и мне чудится, что, вот же, два главных героя моего мира сновидений, которые только что вели разговоры в лабиринтах сна, вошли в реальность, не прерывая этого разговора, только голоса их, бесшумные во сне, вдруг обрели звучание, один певучий, другой чуть хрипловатый, и осознав это, я как бы, пусть не до конца, нащупал тайное место соединения мира реального и мира сновидений.
Мне же среди множества, снится один постоянный печальный (через всю жизнь) сон: я сижу в темном зале театра; неважно, что происходит на сцене, гам и вовсе какое-то белое световое пятно, но страстно хочется увидеть, кто сидит рядом со мной, вокруг: я знаю, я чувствую, что это знакомые, дорогие мне люди, которых унесло потоками жизни во все эти годы, а вот они рядом, дышат, скрипят стульями, касаются меня, но я не могу их видеть и знаю, что так и не увижу их, и всю жизнь они будут со мной рядом, вплотную, так, что я буду слышать их дыхание, ощущать их вечное присутствие, теплоту такого близкого их существования, даже если их нет в живых, но не увижу; вокруг этого зала детали сна весьма подробны, если исчезает какая-либо вещь или человек, тут же, их заменяя, возникает иная вещь или личность, это словно бы некий закон сохранения цельности сна, только провальная темнота зала неподвластна этому закону, это дорогая мне и недостижимая бездна, и часто в каких-то помещениях, примыкающих к этой бездне возникает образ отца, и объемлющий его, как облако, неизменный сюжет: он пропал без вести, и вдруг, через много лет, объявляется, и совсем он не изменился, вечно молодой, и все существо мое исходит такой радостью, что я просыпаюсь с тревожно бьющимся сердцем в предчувствии бедствий.
Иногда во сне ухает филин, птица тьмы, мгновенно возникают нездешние, такие печально-прекрасные глаза маленькой Хоналэ, я просыпаюсь, слыша, как в ночи кричит филин, обливаюсь холодным потом: только бы не сидел на нашем дымоходе, это знак, что кому-то предстоит умереть; облегченно вздыхаю: филин кричит с каких-то близлежащих крыш, кажется, в самом воздухе носятся знаки бедствий, которые на нас обрушатся, вымышленный страх ужасней истинного.
В эти беспощадно утренние часы ледяной стужи моего четырнадцатилетия невозможно поверить, что вот-вот наступит весна, цветущий май, и опять недоедание, которое заслонит такое дальнее, но впрямую касающееся нас событие: провозглашение государства Израиль, затем июнь, когда растворятся хляби небесные, ливень бурными потоками будет нестись по руслам улиц в Днестр, а в Кишиневе затопит нижнюю часть города, и будут плыть из окон бедноты убогие столы, стулья, лохмотья, барахло, мертвые коровы со вздутыми животами, доски заборов, крыши развалюх (мы в это время были в Кишиневе на олимпиаде, струнным оркестром на голодный желудок лихо исполняли сюиту, славящую нашу счастливую жизнь); в сентябре Илья Эренбург в газете "Правда" с пеной у рта будет доказывать, что мы, евреи, как нация не существуем, и что нет ничего злостнее на свете, чем сионизм, а в ноябре разгонят "Еврейский антифашистский комитет" и пошлют в концлагеря еврейских артистов, писателей, деятелей искусств. Бедствиями отравлен воздух, которым дышим. Но главный страх: не умереть от голода.
Сводящими с ума голодными сагами разворачиваются страницы об осажденном Иерусалиме в Библии, которую мы читаем с ребе Пустильником, песни бабушки, эти слова, от которых наворачиваются слезы:
Взой кенын мир шпилен мит ынзере хэнт
Ынзере ейлике лидер,
вэн Ирушалаим ис фарбрент
ин ын гулыс зэнын ынзере бридер… [10]
Но даже это все тускнеет перед рассказами ленинградцев, маминых знакомых по работе в банке (мама работает секретарем-машинисткой, получая гроши), которые, как ни странно, приехали спасаться от голода к нам. Они пережили блокаду. Тонкие летучие иллюстрации Петербурга из книг Гоголя, бледные, влекущие размытой глубиной акварели стоят перед моими глазами под аккомпанемент повествующих голосов: великий, призрачный, как химера, город, полный лихорадящей красоты, выпадает в кошмарную реальность, где апокалиптические видения осады Иерусалима с трупами, валяющимися на улицах, матерями, поедающими детей своих, стали самой будничной картиной блокады: трупы валялись на улицах бревнами, люди сходили с ума от голода, выбрасывались из окон, десятки, сотни тысяч, и все на глазах равнодушной, цепенеющей в холоде страны; страшно глядеть на цифры, высеченные в камне на Пискаревском кладбище: во много-много раз больше умерло от голода, чем от немецких снарядов. А я слушаю и вспоминаю единственное кладбище, с которым связана память, единственную могилу, на которой так и не сумели поменять табличку с более прилично выведенной надписью, так и жжет-прожигает она мне память (через всю жизнь) кривыми буквами, начертанными чернильным карандашом.
Летом и осенью сорок третьего я часто хожу через кладбище, бездумно сижу у могилы, потом захожу в пустую, с выбитой дверью, загаженную церковь, под куполом которой мечутся напуганные моим появлением орущие галки. Мы перешли в другую хату, намного меньше первой, рядом с нами богатый дом и двор лоснящегося от самодовольства колхозного кладовщика, напротив – сельсовет, за углом – ткацкая фабрика, на которой мама теперь работает ткачихой, восемь часов сидит за станком, и снует в руках ее нить от челнока, и тянется ткущаяся на глазах белая ткань, бесконечно змеящийся саван.
От мамы иду через кладбище на мельницу, которой управляет Клавдия Михайловна: она подружилась с мамой, помогает нам продержаться, подбрасывая время от времени немного муки. У Клавдии Михайловны взрослая дочь и чудесная овчарка с именем, похожим на таинственный звук охотничьего рога – "Рум"; "Ру-у-ум, Ру-у-ум", – кричим мы вдвоем с Галочкой, черноволосой девочкой, которая живет по соседству с мельницей: с ней мы "крутим любовь", обнимаемся и целуемся, прячась в кустах, куда и прибегает огромный Рум, добродушно обнюхивает нас; уже к вечеру, когда появляются звезды, я отправляюсь домой, опять через кладбище (это единственный путь в село), иду среди могил уже в темноте, не испытывая никакого страха, вижу выходящего из-за кустов мужчину: он приближается, идет рядом со мной, спрашивает, как меня зовут, есть ли у меня родители, я простодушно и с готовностью отвечаю, я чересчур голоден и равнодушен, дитя, заброшенное в гибель войны и пересекающее ночное кладбище с могилой отца, чтоб испугаться этого мужика, вероятно, дезертира, который шкурой чувствует, что среди мертвых наиболее безопасно скрываться от живых (гораздо позднее всплывает в памяти эта ночь, окрашенная романтикой детства и страхом взрослого); недалеко от церкви он сворачивает на боковую тропинку, исчезает…