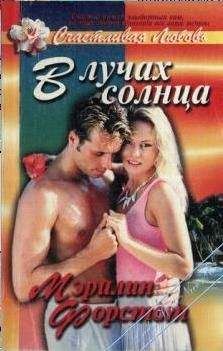Сергей Шаргунов - Как меня зовут?
Лежа, прислушиваясь к каждому своему закоулку, ладонью коснулся сердца: засыпаю или умираю… Ему показалось, что сердце поехало. Страх накрыл тело, сердце все ехало, разгоняясь, уже мчало, подпрыгивало, сейчас взлетит. Смял в кулаке мякоть одеяла. Уши заложило. И тут организм выкинул шутку — лежащий, заглотнув страх, отключился.
Через минуту сопел.
К полудню поехали в горы. На воздухе в бассейне толкались серебряные рыбы. Судья выудил одну невольницу и милостиво швырнул в голубизну обратно. Увешанный ружьями и рогами закуток, древесно-свежий. Куркин, не отойдя от вчерашнего, опять тарахтел несусветное. Все делали участливый вид, даже когда он начал каллиграфично поливать соком скатерть.
Нары, веники, самцы-голыши, местами прозрачно-жирные, местами усохшие, венозные, с шерстяными родинками. Судейское тело, разноцветно и неприлично татуированное…
— Поддай парку. — Судья шамкал едва послушными челюстями, и шофер лил из ковша в седеющие угли. — Пойду ополоснусь…
— Слышь, ребят, давайте с ним! — Куркин кутал колени под простыню. — Маленький! Стоять!
Зам судьи, взъерошив чуб, гикнул:
— У-ух, хорошо! — И, толкая шофера, вывалился.
— Вы зачем пьете? Вы пугаете людей! — Андрей говорил неестественно громко, дабы голос прошиб деревянные стены. — Вы что обсудить хотели?
Старец развел простыню и спланировал с нары.
— Гляди, а мы оба голые. Голенькие. — Зашлепал навстречу, весь лучась: — Ну где твой? Дай посмотрю!
Из липких седых кустков выпирала мелочь, винная, напрягшаяся, слезящаяся.
Андрей пятился, не отводя завороженных глаз.
— Маленький… Мы же братишки! Наша… у нас… Независимы мы… Мы… Мы…
Юноша выскочил наружу.
Нырнул в ледяной бассейн, громя рыб.
Куркин — следом, теряя сознание, это поняли не сразу, когда уже замаячил у кафельного дна.
Выволокли, внесли в закуток, уложили на лавку.
— Васильич, живой? Бабу хочешь? — Судья растирал утопленнику грудь, смахнул налипшие чешуйки.
— Бабу? Не… Не… Погоди. Я так не могу. Искра… должна… вспыхнуть…
— Жив писака!
— Хе-хе. — Куркин странно ожил, его обрядили в рубаху, брюки, накинули пиджак. — Слышь, ты — хороший малый. А мне говорили, вор.
Пауза. Все переглянулись.
— Я знаю собаку, что на меня брешет. — Судья насупился. — Левченко, прокурор наш. Старые счеты.
— Да? — Куркин младенчески округлил гляделки. — А мне говорили, ты плохой… Значит, это он — вор? Так мы тебя защитим! Андрюшик, статью напишем?
— Не нужно меня защищать! — Судья уголовно прищурился.
— Поддержим… — вставил Худяков.
— Ага, поддержка нужна, пацаны. — Судья быстро обсосал губы.
Ночью уезжали. Ломило кости.
Чувствуя, как надвигается хворь и стеклянный виноград давит горло, ехал в машине с наставником. Старик лез, пьяно обнимал, колупал руку с неловким доверием, а Андрей отворачивался, смотрел юг. Вода, огни, каменные громады, все бессловесное. Отдыхал, пропуская грипп в носоглотку, в мозги, и страшная догадка: природа, покойная окрестность, надежное отдохновение — тут его позор!
Как же раньше не додумался!
Все эти старые камни, ритмичные морские валы, вечнозеленые кипарисы — вид, модельный вид, но не особь.
И если гравий вдруг по-человечьи заскрипит под ногами, то:
— Классные кеды! Где брал?
Плебеи — сучка тявкающая, кот, зенками мерцающий, щегол чирикающий, таракан, усами шевелящий.
Звезды — воры.
А горы — навозные.
Прощай, свинья!
В Москве оба слегли с жаром, старик и мальчик.
— Привет, маленький. Живой?
— Я не маленький. Меня зовут Андрей.
— Слышь, у тебя что, сорок?
— А у тебя?
— Почти здоров. Ты давай не разлеживайся. Про судью я сам написал. Название: “Судью судят воры”. Нравится? Это последний раз. Не ленись.
— А что написал-то? Как оклеветали хорошего человека?
— Маленький, ты сам все видел. Еще спрашивает. Тут мне Ирка звонила с телевиденья. По поводу фашистов… как их?.. забываю…
— “И души, и бестии”.
— Вот! Ты по телевизору выступи. К среде поднимешься? Будешь дальше болеть — не снимут. Не, если совсем расклеился, ребята сами подъедут. Только ты правду скажи, как писал. Фашисты, бритые, убивают негров. Алло! Маленький…
— Я ухожу из газеты.
— Алло!
— Больше не звони.
— Ты с ума сошел! Послушай, ты подонок и свинья. Удостоверение передашь мне. Положишь на проходной.
Обрыв связи. Перезвон.
— Маленький, извини, я горячусь. Мы больные…
— Чтоб ты сдох!
Двое
Вы все смотрели этот фильм. Стрелялки, гонки, фейерверки, но там была идея, для которой он снял бы другой фильм. Ему снился частенько тот фильм, дерущий до дрожи, поездки по России, расследования, газетный коридор, питье в кабаках и ласки в постелях, дневник, письмо отцу, и поверх паутина, расчет отстраненной силы. И верования наши, фразы, чаянья и отчаянья наши совсем не наши, мухи мы, плясуны на нитках. Раз в неделю говоришь слово “НИТКА” — и тотчас видишь его, раскрыта на коленях газета, или получаешь из радиоприемника, это на миг порвалась паутина, всего-то сбой… Впереди одно. Задохнуться, трепыхнуться, пропасть. И новые, жадные до позора рои.
Он бы рисовал на каждой могиле “Ь”. Мягкий знак. Гладь. ЬЬЬЬЬЬЬ… Неслышный звук, самый рассерженный. Звук того места на поверхности, где человек утонул.
Он просыпался. Какой сезон? И где-то, у соседей ниже или в дворовой распахнутой машине:
Все пройдет: и печаль, и радость,
Все пройдет, так устроен свет…
Ироничный голос у певца. Пластилиновая кровь в сосудах, остекленевшие глаза, вонь, синеющее мясо, ловкие черви — про это песня? Вскакивал, грудью расшибая тьму, запуская пальцы в волосы, и дергалось, готовно пробуждаясь, ночное небо за окном. И, нашкодивший, тянул песню мужичок: “Все пройдет, так устроен свет…” Небо, багрово-светлое, зареванное, отражало городские электричества. На небе жили светила.
Луна, полыхающая, — деревенская дуреха, девка засидевшаяся, вывалилась по грудь из окна.
Летняя, клубок нитей, и светло-желтые эти нити, свитые, различимы в своей отдельности.
Зимняя, серо-белые тучи, краснушная, разметавшаяся в постели.
Луна белая, словно череп, сияющая сквозь резкие веточки, что ложатся на ее облик — чертами черепа — чернотами глазниц, рта, носовой дыры…
Стоит ли говорить — почему не стоит? — небо, усыпанное звездами, ускоряет сердцебиение, а луна сбивает глаза в кучу.
А на выходе из кинотеатра “Художественный”, в очереди вон, молодежной, хрустящей соленым попкорном, он увидел Таню.
Ее засасывало.
Рассыпанные волосы, профиль-скула, подруга Антантова…
— Таня? Та-аня!
Она.
Они не занялись постелью в первую же встречу, зато втянула его в курение. Так заразительно она дымила, что, не удержавшись, стрельнул сигаретку, дамскую, точеную.
Из кино переместились на старый говорливый Арбат, нашли кафешку, Таня не пила, и только это удержало Андрея от срыва в попойку. Общались ни о чем, обиняками, опасаясь прокола. Он плел ей что-то далекое, проверяя: готова ли к колоссальному пенису и знает ли о смерти. Ничего не прояснил.
Она нигде нынче не работает. “И души, и бестии”? Из этой конторы выгнали.
Мужицкие руки, крестьянские, в деда. Толстые и короткие пальцы. Широкие и по-трудовому бескровные ногти. Странно, что генетически не передались мозоли. Пестрые тона. Восточное влечение к красному и черному. Простейшая кость носа. Нос как у писателя Куприна. “Мой Куприн”, — будет шептать ей Андрей в минуты нежности. Грубые губы. Удаль в плечах. Ножки-худышки. И он еще узнает, как по-лесному застенчиво розовеют пальцы-земляничины на голубом кафеле московской ванной.
Дома включил телевизор. Попал на рекламу.
— Хочешь, я угадаю, как тебя зовут? Зову-ут! Зову-уу-т!
А меня? Не знаю я, отец. Ты дал мне имя Андрюша. Твоей деревенской маме оно не нравилось. Она никак не могла его произнести. “Адрей, Адрей, тьфу, подавишься!” Три согласных подряд. В обществе я явлен под разными именами, курящий, бросивший курить, но оба имени не мои.
Сговорились о новой встрече.
Весеннюю реку мутило. Они напивались, и ресторанчик качался на реке. Багрянели, продираясь сквозь шампанское и текилу. Андрей просаживал последнее. Алкоголь напитывал слова. Не хочешь землянику? Можно предложить клубнику, вышел бы сутенерский выпуклый жест, прелюдия к возне, а земляника — подвижка к сердечности. Земляника и редкое лакомство, и всем доступна… Что-то летописное, стародавнее, хруст на зубах, но новорожденное и мокренькое. Такое же имя Таня.
Рассказывала: как-то, лежа под парнем, заметила газету на подоконнике с пустотами полей, заполненными его автографами. Росчерк за росчерком, налаженный танец…