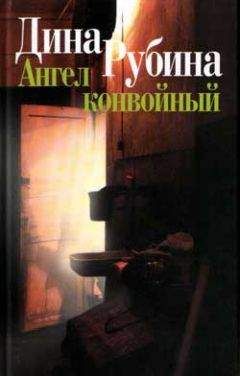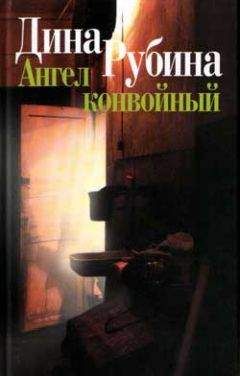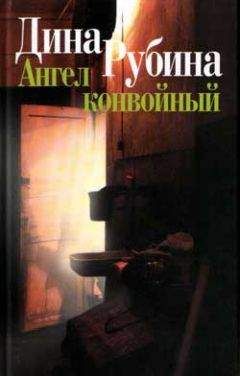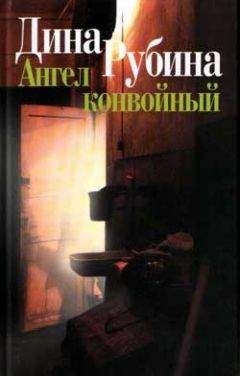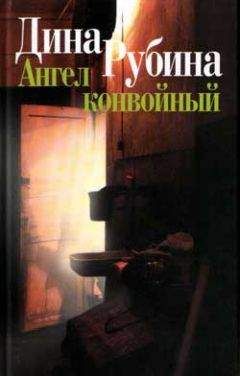Александр Гольдштейн - Аспекты духовного брака
Согласно традиционной интерпретации, «или/или» есть синоним обязательности предпочтения чего-либо одного из двух, именно так трактуют это выражение толковые словари языков. Цунетомо утверждает обратное: правильный выбор немыслим, следовательно, дискредитируется выбор как таковой. Автор «Хагаку-рэ» совершает радикальное действие: он устраняет дизъюнктивность, ту самую косую линеечку между двумя союзами, которая и создавала необходимую для выбора дихотомию (вот она, эта черточка, в правом нижнем углу клавиатуры: /), и то, что символизировало собой несходство, обнаруживает симметричное тождество — «или или». (В других языках эти словечки в данной позиции графически различаются, как, например, «eighter — or», «entweder — oder», но дело от того не меняется и даже становится еще хуже.) Исчезает любое различие, повсюду руководит ослепшее тождество и отсутствие предпочтения, ибо все вокруг одинаково — одинаково безнадежно.
Там, где нет выбора, остается последний шанс проигравших, и он называется — смерть. В ситуации «или/или», говорит Цунетомо, нужно не колеблясь брать себе гибель, потому что Путь Самурая — это смерть. Все мы надеемся жить, развивает он мысль, и неудивительно, что каждый стремится найти оправдание своим малодушным цепляньям за мир, но если человек продолжает жить, не достигнув цели, он поступает недостойно. Если же он не осуществил своей цели и умер, это действительно фанатизм и собачья смерть. И в этом нет ничего постыдного. Такая смерть и есть Путь Самурая.
Цунетомо перечисляет, за что отдает себя истинный самурай. Он, конечно, умирает за своего господина. Он, конечно, умирает ради любви, тайной любви: ничто не сравнится с молчаливой тоской по возлюбленному и кончиной от неразделенного чувства — правильная этика воспрещает хоть раз вымолвить имя желанного. Прекрасные, яркие устремления к гибели, но в начале нового века их экстремизм должен быть переоценен и углублен. Какого рода насильственной смертью преимущественно оперировал прошедший век? Во-первых, он работал с гекатомбами миллионов, в оцепенении следивших, как передние вагоны состава заворачивали к пункту прибытия и освобождали место для задних, во-вторых, он иногда спознавался с героизмом индивидуальных и коллективных самопожертвований.
Это исхоженные тропы Танатоса, самурайская, то есть нетривиальная, смерть сегодня реализует себя лишь в полном отказе от принципа цели. Иными словами, на рассвете новых времен самураю надлежит умирать не за идеал, а за бессмыслицу и абсурд, который самим смертником так и осмыслен. Сладостно и приятно отдать жизнь за объект горячей веры, но попробуй в здравом намерении и со счастливой усмешкой расстаться с собою во имя чепухи и вздора, вроде случайного попугая, орошения в Нижнем Египте и вконец измельчавшей попутчицы. И чтоб люди, если заметят тебя, так нелепо и кукольно распластавшегося на асфальте, потом говорили бы: «Какой идиот, что он наделал?!» Да, чтобы они обязательно бурчали себе это под нос. Это была бы собачья, самурайская смерть.
В романе самоубившегося шведа Стига Дагермана выведен критик, которому надоели пустословия о литературе и реальности; во время очередной дискуссии он выбрасывается из окна гостиной, разбиваясь у ног влюбленной в него проститутки — якобы для исчерпания темы и доказательства того, что точно такая же смерть, изображенная в обсуждаемом романе, могла иметь основания в так называемой жизни. К литературе меж тем критик давно остыл, проститутка его тяготит своей уличной жалостью, предмет спора и собеседники вызывают у него презрение, скандальная слава и память потомков — пустой звук, и завершающий жест напоен родниковой прохладою незаинтересованности. Таким и должен быть самурайский исход. Однажды, сидя в кафе с молодой женщиной, которая нравилась мне сильней, чем того позволяла запутанность ее частной жизни, я услышал рассказ о том, как ее любовник обидчиво жаловался, что она вечером забывала спросить, ел ли он среди дня и чем занимался. «Представляешь, я даже на ладони стала помечать: не забыть, не забыть, я за него умереть готова, а он: почему ты опять у меня не спросила…» Ямамото Цунетомо порадовался бы этим словам, я же не был готов пожертвовать собой — ведь моя добровольная смерть показала бы, что эта женщина не значит для меня ничего.
Жизнь самурая
Помимо доминантного мотива — апологии гибели — «Хагакурэ» содержит неожиданное восхваление жизни, и этот парадокс Юкио Мисима толкует в том смысле, что два девиза написаны на обеих сторонах одного щита и противоречие снимается синтезом.
Цунетомо скончался в своей постели. Рыцарственный Мисима оправдывает кумира тем, что его эмансипированный господин, умирая, воспретил своим слугам последовать за собой, и будущий автор книги воинских доблестей, собиравшийся вскрыть себе живот, был вынужден стать монахом. Но никто не смог помешать самому Мисиме сделать себе горизонтальный разрез брюшной полости и дождаться, опустившись лицом в ковер, пока меч кайсяку избавит его от мучений несостоятельного военного переворота. Щиты создателя «Хагакурэ» и создателя «Золотого храма» легли разными сторонами. Правда, есть точка, в которой самурайская смерть совпадает с продолжением существования и двуипостасная этика обретает единство. Воин должен жить так, как если бы тело его уже умерло, поучал Цунетомо послушника. Лишь эта позиция наделяет его душу прозрачной льдистостью и всесокрушающей одержимостью.
Одержимость
Нельзя совладать с одержимым, безумие возглавляет список бойцовских достоинств, преданность шествует после, как прирученный лев за отшельником. Цунетомо называет одержимых и тонкой кистью рисует их подвиги, вот один из них — Анатолий Порчак, имя, на которое лет девятнадцать назад в республиканской столице Востока отзывалась литература декаданса. Почтальон, курьер, фотограф, он ко времени нашей встречи стал городским сумасшедшим, а я выпрашивал у него недоступные книги. Сроду не написав ни строки, Толик был поврежден и затоптан словесностью, обитая в яме патриархального общества, где ему на голову капала пенсия для инвалидов. Какая бы падаль ни гнила тогда по углам, а спартанские скалы вышли из моды, недоделанных вниз не бросали, и тишайший юрод слонялся по улицам, клянча у доброжелателей мелкие деньги. Его коллекция редких авторов составлялась годами и была озарена пароксизмами попрошайничества, нищенского подворовывания и самозабвенного скопидомства, когда на учет бралась каждая крошка, уж не говоря о копейке, схоронившейся меж двумя пауками. Но все эти действия были только преамбулой, чтобы несколько позже пролился дождь порчаковского расточительства и все сбережения ухнули в сытинские, саблинские или раннесоветские томики, долго еще запиваемые, за отсутствием другого питья и еды, водой из-под крана. У Толика находил я ру-бежно-вековой упадок, изобличавший китайщину сада пыток и вампиров прогресса, обескровивших красоту городов, в коих осень Средневековья легла саваном на уже безмолвные, будто старая схоластика, улицы, на лебедей в зеркале парковых вод, на одинокого звонаря, чей взгляд, жаждущий быть выше жизни (как я любил и люблю Роденбаха), на протяжении сотен страниц упирается в небо, исколотое шпилями колоколен (небо, в котором нет Бога, известил скандинавский поэт таитянского живописца), я отрывал эти книги от хозяйского сердца, но хозяин не возражал. Эта коллекция, отмеченная изяществом стародевичьего гербария, и привела Анатолия туда, откуда он не вернулся.
Превратившись в окурок и оплывшую свечку, в хомяка и полевого мыша, он перетаскивал в норку свои раритеты, но у него не было книг самых насущных и важных, тех, ради которых претерпевались пытки, эти сочинения даже не переводились на русский, полный, допустим, Джойс, и Толик, возроптав из горя, отважился застелить пустоту удивительным амоком. Вот прознавал он, что советская власть наконец-то готовилась тиснуть какую-нибудь драгоценную прозу. Ага, говорил, это, конечно же, не случайно, сами не догадаются, это я им внушил, восприняли мой сигнал. Поскольку режим постепенно мягчел и подарки переставали быть праздничной невидалью, Толик все более укреплялся в могуществе, в том, что властью воли разогрел атмосферу, расколол супостата. Определив свою миссию, он сосредоточился на желании, но даже ему это было не просто, хотелось ведь многих книг сразу, а Порчак по опыту знал, что молиться нужно за каждую порознь, врозь, дабы они друг на дружку не наплывали. И порою бывали у него ужасные промахи, сбои, когда целая стая объявленных редкостей вдруг опять скрывалась в цензурной чащобе, ибо в последний момент он от жадности и нетерпения не выпросил каждого зверя поодиночке, отказал ему в умилостивительном имени, грубо погнал его стадной тропой. Неудачи разбавляли гордыню смирением, он держал удары стоически, и однажды пришло к нему знание, что борьба ведется не с государством. Тогда Анатолий Порчак утроил старания.