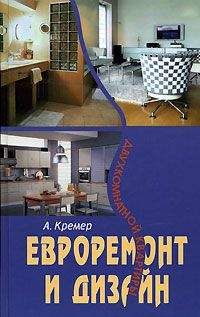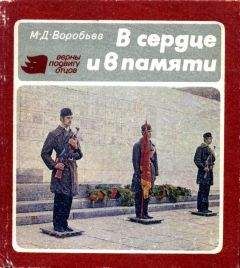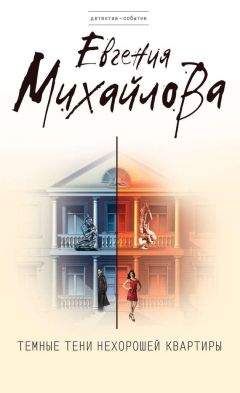Сильвио Пеллико - Пеллико С. Мои темницы. Штильгебауер Э. Пурпур. Ситон-Мерримен Г. В бархатных когтях
— Вот и наказан ты, — говорил я самому себе, — за твою самонадеянность! Вот что выигрываешь, когда пускаешься в миссионерство, не имея должных качеств для этого!
В один прекрасный день я решился написать ему эти слова:
«Я до сих пор всеми силами старался вызвать вас на другие темы, а вы все мне посылаете рассказы, которые, как я откровенно вам говорил, мне не нравятся. Если угодно вам, чтобы мы говорили о более достойных вещах, тогда продолжим нашу переписку, в противном случае пожмем друг другу руки, и пусть каждый из нас останется при своем».
Два дня не было ответа, и я вначале радовался тому. «О, благословенное одиночество! — восклицал я, — сколь менее тягостно ты нестройного, унижающего сообщества!
Вместо того, чтобы сердиться, читая те бесстыдства, вместо того, чтобы напрасно стараться противопоставить им благородные мысли, которые прославляли бы человека, я буду опять беседовать с Богом, я вернусь к своим дорогим воспоминаниям о своем семействе, о своих истинных друзьях. Я буду снова больше прежнего читать Библию, писать на столике свои мысли, изучая свое сердце и стараясь улучшить его, я вернусь снова к тихой, невинной грусти, в тысячу раз предпочтительней всяких игривых и скверных картин.»
Всякий раз, как Тремерелло входил в мою камеру, он говорил мне:
— Ответа еще нет.
— Хорошо, — отвечал я.
На третий день он сказал мне:
— Синьор N. N. лежит больной.
— Что с ним?
— Он не говорит ничего, но все время в постели, не ест, не пьет и в скверном расположении духа.
Я был сильно опечален тем, что он страдает, и что у него нет никого, кто бы утешил его.
У меня сорвалось с языка, или, лучше сказать, вырвалось из сердца:
— Я напишу ему две строчки.
— Я их отнесу сегодня вечером, — сказал Тремерелло и ушел.
Я был в некотором затруднении, садясь за столик. Хорошо ли я делаю, что снова берусь за перо? Не я ли благословлял недавно свое одиночество, как вновь отысканное сокровище? Как же я непостоянен! Однако этот несчастный не ест, не пьет, наверное он болен. И время ли теперь покидать его? Последняя моя записка была жестока: не помогла ли она огорчить его? Может быть, несмотря на различие нашего образа мыслей, он никогда бы не разорвал нашей дружбы. Моя записка, может быть, показалась ему суровее, чем она была на самом деле, он и принял ее за безусловное, пренебрежительное прости.
XLI
Я написал следующее:
«Я слышал, что вы нездоровы, и это сильно меня огорчает. От всего сердца я желал бы быть возле вас и оказать вам все услуги друга. Я надеюсь, что единственной причиной вашего молчания за эти три дня было ваше плохое здоровье. Не оскорбились ведь вы моей запиской того дня? Я написал ее, уверяю вас в этом, без малейшего недоброжелательства и с единственной целью привлечь вас к более серьезным предметам рассуждения. Если писать вам болезнь не позволяет, посылайте мне только точные известия о вашем здоровье, я буду вам писать всякий день что-нибудь, чтобы развлечь вас и чтобы вы помнили, что я хочу вам добра».
Я никогда не ожидал такого письма, каким он мне ответил. Оно началось так: «Я отказываю тебе в дружбе: если ты не знаешь, что делать с моей, то и я не знаю, что мне делать с твоей. Я не такой человек, который прощал бы оскорбления, я не такой человек, который вернулся бы раз он отринут. Потому что ты знаешь, что я болен, ты пристаешь лицемерно ко мне в надежде, что болезнь ослабит мой дух и допустит меня слушать твои проповеди…» И он продолжал дальше все в таком же роде, жестоко порицая меня, насмехаясь надо мной, выставляя в карикатурном виде все, что я говорил ему о религии и о нравственности, обещая жить и умереть всегда одним и тем же, т. е. с величайшею ненавистью и с величайшим презрением ко всем философиям, отличным от его.
Я был ошеломлен.
— Хороших дел наделал я, — говорил я себе с горем и ужасом. — Бог мне свидетель, что мои намерения были чисты! Нет, я не заслужил этих оскорблений! Терпение! Одним образумлением больше. Да образумится и тот, если он выдумывает себе обиды, чтобы иметь удовольствие не прощать их! Больше того, что я сделал, я не обязан делать.
Все-таки, спустя несколько дней, мое негодование улеглось, и я подумал, что такое бешеное письмо могло быть результатом непродолжительного возбуждения. «Может быть, он и стыдился его, — говорил я, — но слишком горд, чтобы признаться в том, что он не прав. Не великодушно ли будет теперь, когда у него было время успокоиться, еще раз написать ему?»
Мне многого стоило принести в жертву мое самолюбие, но я это сделал. Кто смиряется, не имея низких целей, тот не унижается, какое бы несправедливое презрение ни пало на него.
Я получил в ответ письмо менее жестокое, но не менее оскорбительное. Он, не примиренный, говорил мне, что удивляется моей евангельской кротости.
«Ну, хорошо, примемся, — продолжал он, — опять за переписку, но будем говорить прямо. Мы не любим друг друга. Мы будем писать с той целью, чтобы каждому позабавить самого себя, свободно излагая на бумаге все, что приходит нам в голову: вы — ваши серафимские мысли и образы, а я — свои богохульства, вы — ваши восторги по поводу достоинства мужчины и женщины, а я — простой рассказ о своих нечестиях, в надежде, что я обращу вас, а вы обратите меня. Отвечайте мне, нравится ли вам такой договор».
Я отвечал: «Это не договор, а насмешка. Я искренне желал вам добра. Совесть не обязывает меня больше ни к чему иному, как к пожеланию вам всякого счастья и в этой и будущей жизни.»
Так кончились мои тайные сношения с этим человеком, — кто знает! — может быть, более ожесточенным несчастием и безумствующим с отчаяния, чем дурным по натуре.
XLII
И опять я истинно благословлял свое одиночество, и мои дни в течение некоторого времени вновь потекли без всяких перемен.
Кончилось лето, в последней половине сентября жар спал. Наступил октябрь, я радовался теперь, что у меня комната будет хороша для зимнего времени. Но вот раз утром приходит тюремный смотритель и говорит мне, что ему приказано переменить мою камеру.
— Куда же переводят меня?
— Да вот тут, в нескольких шагах отсюда, в более прохладную камеру.
— А почему же не подумали об этом в то время, когда я умирал от жары и когда воздух кишел комарами, а постель — клопами?
— Приказа раньше не было.
— Ну, хорошо! — идем.
Хотя я и многое вытерпел в этой камере, мне все-таки грустно было покидать ее, и не только потому, что она была прекрасной в холодное время года, но и по многим другим причинам. Там у меня были муравьи, которых я любил и кормил с заботливостью, я сказал бы, почти отеческой, если бы это не было смешным выражением. За несколько дней перед этим мой милый паучок, о котором я говорил, эмигрировал куда-то, уже не знаю, по какой причине, но я говорил себе: кто знает, не вспомнит ли он обо мне и не вернется ли? И теперь, когда я ухожу, может быть, вернется он и найдет эту камеру пустой, а если и будет здесь другой какой-нибудь гость, может, будет он врагом пауков и сметет туфлей эту красивую паутину и раздавит бедную тварь! Сверх того, не скрашивалось ли мое печальное пребывание в этой камере добротою Цанце? Бывало, так часто прислонялась она к этому окну и великодушно кидала моим муравьям крошки буццолаи 11. Там, бывало, сидела обыкновенно, здесь вот рассказывала мне про это, тут рассказывала про то, там вон наклонялась она над моим столиком и обливала его своими слезами!
Помещение, куда перевели меня, находилось также в свинцовых тюрьмах 12, но с двумя окнами — одно на север, другое на запад, местопребывание постоянных простуд и страшного холода в суровые месяцы.
Окно, выходившее на запад, было огромное, окно, выходившее на север, было маленькое и находилось высоко над моею кроватью.
Я высунулся сначала в то окно и увидел, что оно выходит напротив палаццо патриарха. Вблизи моей камеры находились другие в небольшом флигеле направо и в каменном строении напротив меня. В этом строении было две камеры, одна над другой. В нижней было громадное окно, и в него видно мне было, что там ходит по комнате человек, прилично одетый. Это был синьор Капорали ди Чезена. Он увидал меня, сделал мне какой-то знак, и мы сказали друг другу наши имена.
Потом захотел я взглянуть, куда выходит мое другое окно. Я поставил на кровать столик, на столик стул, вскарабкался на него и увидел себя на одном уровне с крышей палаццо. По ту сторону палаццо представился мне прекрасный вид на город и на лагуну.
Я стоял и любовался этим прекрасным видом и, слыша, что отворяется дверь, я не тронулся с места. Это был тюремный смотритель, который, увидав меня взобравшимся наверх, забыл, что я не могу, как крыса, уйти через решетку, вообразил, что я пытаюсь бежать, и, страшно испугавшись, быстро вскочил на кровать, несмотря на ломоту в бедрах, которая мучила его, и схватил меня за ногу, пронзительно крича.