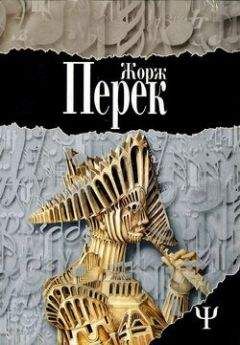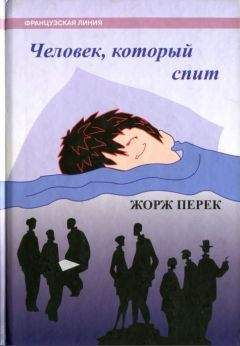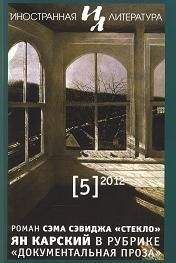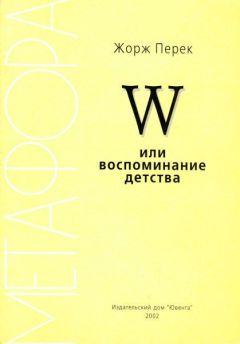Жорж Перек - Жизнь способ употребления
Он был старейшим жильцом дома. Он жил здесь дольше Грасьоле, переехавшего сюда уже во время войны, за несколько лет до того, как унаследовать от некогда владевших всем зданием родственников то, что осталось от их владения, а именно пять-шесть квартир, от которых он постепенно избавился, в итоге оставив себе одну двухкомнатную квартирку на восьмом этаже; дольше мадам Маркизо, которая чуть ли не родилась в этом доме, в квартире своих родителей, тогда как он на тот момент жил здесь уже почти тридцать лет; дольше пожилой мадмуазель Креспи, пожилой мадам Моро, четы Бомон, четы Марсия и четы Альтамон. Даже дольше Бартлбута: он очень хорошо помнил тот день тысяча девятьсот двадцать девятого года, когда молодой человек, — ибо в то время тот был еще молодым человеком, ему не было и тридцати, — сказал ему по окончании их ежедневного урока акварели:
— Кстати, похоже, большая квартира на четвертом этаже освободилась. Думаю ее купить. Смогу тратить куда меньше времени на дорогу к вам.
И в тот же день он ее купил. Разумеется, не торгуясь.
К тому времени Вален жил в доме уже десять лет. Он начал снимать комнату в октябре тысяча девятьсот девятнадцатого года, когда приехал из своего родного Этампа, который до тех пор практически никогда не покидал, и начал готовиться к поступлению в Академию художеств. Ему едва исполнилось девятнадцать лет. Эту комнату ему на время любезно предоставил друг его родителей. Впоследствии Вален, конечно, женился бы, прославился бы или вернулся бы в Этамп. Вален не женился и не вернулся в Этамп. Слава к нему не пришла; через пятнадцать лет он пользовался не более чем скромным признанием; несколько постоянных клиентов, несколько иллюстраций, опубликованных в сборниках сказок, да несколько частных уроков позволяли ему жить в относительном достатке, неторопливо писать картины и даже совершать путешествия. Позднее, когда ему представилась возможность найти более просторное жилье и даже настоящую мастерскую, он понял, что слишком привязан к своей комнате, к своему дому, к своей улице, чтобы их оставить.
Разумеется, были люди, о которых он не знал почти ничего, которых он вряд ли сумел бы идентифицировать, люди, которых он встречал на лестнице время от времени, не представляя себе, являются ли они жильцами или гостями жильцов; были люди, о которых он не помнил ничего, были и другие, о которых он сохранил по одному-единственному и незначительному воспоминанию: лорнет мадам Аппенццелл, вырезанные из пробок фигурки, которые господин Троке засовывал в бутылки и по воскресеньям продавал на Елисейских Полях, всегда горячий синий эмалированный кофейник на углу кухонной плиты мадам Френель.
Он пытался воскресить эти неуловимые детали, которые на протяжении пятидесяти пяти лет сплетали жизнь дома и с каждым годом стирались одна за другой: безукоризненно вощеный линолеум, ходить по которому можно было исключительно в войлочных тапочках, моющиеся скатерти в красную и зеленую полоску, на которых матери и дочери лущили горох; рифленые картонные подставки для блюд, белые фарфоровые люстры, которые поднимали в конце ужина; вечера вокруг радиоприемника с мужчиной в флисовой куртке, женщиной в переднике с цветочками и дремлющей кошкой, свернувшейся в клубок возле камина; дети в галошах, которые шли с помятыми бидонами за молоком; большие дровяные печи, из которых выгребали золу на старые газеты…
Где это все, где банки какао «Van Houten», коробки «Banania» с веселым стрелком на этикетке, лукошки с печеньем «Commercy»? Где продуктовые шкафчики под окнами, коробки старого доброго стирального порошка «Saponite» со знаменитой «мадам Сан-Жен», брикеты теплозащитной ваты с изрыгающим огонь чертом, нарисованным Каппьелло, пакетики литиевой соли от доброго доктора Гюстена?
Годы уходили, грузчики выносили пианино и сундуки, скатанные ковры, коробки с посудой, торшеры, аквариумы, птичьи клетки, старые часы, черные от сажи кухонные плиты, раздвижные столы, гарнитуры с шестью стульями, холодильники, большие семейные портреты.
Для него каждый пролет лестницы, каждый ее этаж были связаны с каким-то воспоминанием, каким-то чувством; это что-то отжившее и неосязаемое, где-то трепетавшее, мерцавшее в тусклом свете его памяти: жест, запах, звук, отблеск, голос молодой женщины, певшей оперные арии под собственный аккомпанемент на рояле, неуверенный стук пишущей машинки, стойкий запах толила, призыв, крик, гул, шелест шелков и мехов, жалобное мяуканье за дверью, удары в стенную перегородку, беспрестанные танго на шипящих фонографах или, на седьмом этаже, упрямое жужжание механической ножовки Гаспара Винклера, на которое, тремя этажами ниже, на четвертом этаже слева, продолжала отвечать лишь невыносимая тишина.
Глава XVIII
Роршаш, 2
Столовая семьи Роршаш, справа от просторной прихожей. Она пуста. Это прямоугольная комната, около пяти метров в длину и четырех метров в ширину. На полу толстый палас серого пепельного цвета.
На левой от входа стене матово-зеленого цвета, под стеклом в стальной раме выставлены 54 старинные монеты с изображением Сергия Сульпиция Гальбы, претора, который приказал умертвить в один день тридцать тысяч жителей Лузитании и избежал смертной казни лишь благодаря тому, что умилительно представил судьям своих детей.
На дальней стене, блестяще-белой, как и прихожая, над низким десертным столиком висит большая акварель под названием «Rake’s Progress» за подписью U.N. Owen, на которой изображена маленькая железнодорожная станция в глухой сельской местности. В левой части картины, облокотившись на высокую стойку, служащую кассой, стоит станционный смотритель. Это мужчина лет пятидесяти, с поредевшими висками, круглым лицом и пышными усами. На нем жилетка. Он делает вид, что сверяется с расписанием, но на самом деле заканчивает переписывать на маленький прямоугольный листок бумаги рецепт «mint-саке» из какого-то альманаха, частично прикрытого справочником. Перед ним, по другую сторону стойки, стоит господин в пенсне, чье лицо выражает крайнюю степень раздражения и который, в ожидании своего билета, полирует себе ногти. В правой части картины, толкая огромную бочку, от станции удаляется третий персонаж в рубашке с закатанными рукавами и широких пестрых подтяжках. Вокруг станции простираются поля люцерны с пасущимися коровами.
На правой от входа стене, окрашенной зеленой, но более темной, чем левая стена, краской, висят девять тарелок с рисунками, на которых изображены:
— священник, посыпающий пеплом голову прихожанина;
— мужчина, опускающий монету в копилку в виде бочонка;
— женщина, сидящая в углу вагона и просовывающая руку в какую-то лямку;
— двое мужчин в сабо, притоптывающие, чтобы согреться в студеную снежную пору;
— адвокат, с воодушевлением произносящий защитительную речь;
— мужчина в домашней куртке, намеревающийся выпить чашку какао;
— скрипач, играющий под сурдинку;
— мужчина в ночной рубашке со свечой в руке, разглядывающий; на стене паука — символ надежды;
— мужчина, протягивающий другому мужчине свою визитную карточку; агрессивный вид обоих наталкивает на мысль о дуэли.
Посреди комнаты находится круглый стол в стиле модерн из дерева туи, в окружении восьми стульев, покрытых бархатом шанжан. В центре стола — серебряная статуэтка высотой сантиметров в двадцать-двадцать пять. Она изображает быка, который несет на своей спине обнаженного мужчину в шлеме, с дароносицей в левой руке.
Акварель, статуэтка, античные монеты и тарелки свидетельствуют, если верить Реми Роршашу, о том, что он сам называет «своей неутомимой продюсерской деятельностью». Статуэтка, традиционное карикатурное изображение карты младшего аркана, именуемой Всадником Чаши, была где-то подобрана во время подготовки пресловутой «драмы» под названием «Шестнадцатая грань этого куба», о которой мы уже имели возможность рассказать и чей сюжет в точности повторяет перипетии одного темного дела о предсказании; тарелки были расписаны специально для титров сериала, в котором один и тот же актер поочередно играл роли священника, банкира, женщины, крестьянина, адвоката, ресторанного критика, виртуоза, доверчивого аптекаря и высокомерного князя; античные монеты — считающиеся подлинными — были подарены коллекционером, восторженно воспринявшим сериал о двенадцати цезарях, хотя Сергий Сульпиций Гальба не имел никакого отношения к Сервию Сульпицию Гальбе, который жил на полтора века позже, в период между Нероном и Отоном, и после семимесячного правления был зарублен прямо на Марсовом поле солдатами своей личной гвардии из-за того, что отказал им в donativum.
Что касается акварели, то это всего-навсего один из эскизов к декорациям современной франко-британской постановки оперы Стравинского.