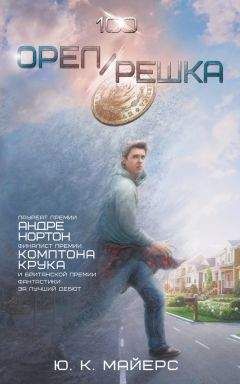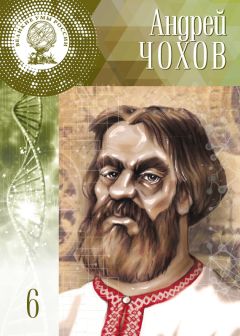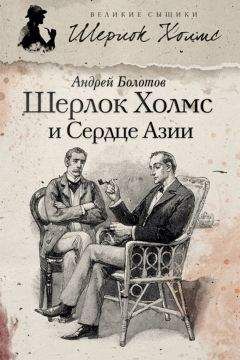Андрей Макин - Французское завещание
Любовники Елисейского дворца помогли мне понять «Госпожу Бовари». В интуитивном озарении я уловил такую деталь: жирные пальцы парикмахера ловко вытягивают и приглаживают волосы Эммы. В тесной парикмахерской нечем дышать, тускло светят зажженные свечи, пламя которых разгоняет вечерний сумрак. Эта сидящая перед зеркалом женщина только что рассталась со своим молодым любовником и готовится возвратиться домой. Я угадывал, что может чувствовать неверная жена, сидя вечером у парикмахера, в промежутке между последним поцелуем в гостинице и первыми самыми будничными словами, с которыми надо обратиться к мужу… Не умея этого объяснить, я как бы слышал струну, звучащую в душе этой женщины. И мое сердце отзывалось ей в унисон. «Эмма Бовари – это я», – подсказывал мне улыбчивый голос из рассказов Шарлотты.
Время в нашей Атлантиде текло по своим собственным законам. Точнее говоря, оно не текло, оно колыхалось вокруг каждого события, воскрешенного Шарлоттой. Каждый факт, даже самый случайный, навеки вплетался в повседневную жизнь этой страны. По ее ночному небу всегда пролетала комета, хотя бабушка, ссылаясь на газетную вырезку, сообщила нам точную дату этого небесного явления: 17 октября 1882 года. Мы уже не могли представить себе Эйфелеву башню без того безумного австрийца, который спрыгнул вниз с кружевной стрелы и разбился среди толпы зевак, потому что его подвел парашют. Кладбище Пер-Лашез было для нас не мирным кладбищем, где тишину нарушает только почтительный шепот туристов. Нет, среди его могил во все стороны бегали вооруженные люди, перестреливались, прятались за надгробными памятниками. Услышанный однажды рассказ о сражении между коммунарами и версальцами навсегда соединился в наших головах с названием «Пер-Лашез». Впрочем, эхо этой стрельбы отдавалось для нас и в катакомбах Парижа. Потому что, по словам Шарлотты, сражения шли и в этих лабиринтах, и пули разносили на куски черепа тех, кто умер много веков назад. И если ночное небо Атлантиды всегда озаряли комета и немецкие цеппелины, то промытую дневную лазурь наполняло мерное стрекотание: некий Луи Блерио перелетал через Ла-Манш.
Отбор событий был более или менее субъективным. Их последовательность определялась прежде всего нашей страстной жаждой знаний, нашими беспорядочными вопросами. Но какова бы ни была значимость этих событий, все они подчинялись общему правилу: люстра, упавшая с потолка Оперы во время представления «Фауста», немедля разбросала хрустальные осколки своего взрыва по всем парижским залам. Нам казалось, в каждом настоящем театре должна была позвякивать громадная стеклянная гроздь, зрелая настолько, что отделялась от потолка при звуках какой-нибудь фиоритуры или александрийского стиха… И мы были уверены, что в каждом настоящем цирке укротителя непременно должны растерзать дикие звери, как того «негра по имени Дельмонико», на которого накинулись семь его львиц.
Шарлотта черпала свои сведения отчасти из сибирского чемодана, отчасти из детских воспоминаний. Некоторые из ее рассказов восходили к еще более давнему времени – она услышала их от своего дяди или от Альбертины, а те в свою очередь получили их в наследство от родителей.
Но что значила для нас точная хронология! В Атлантиде удивительным образом все совершалось одновременно и сейчас. Зал заполняли звуки вибрирующего тенора Фауста: «Образ твой яви скорей…», падала люстра, львицы набрасывались на несчастного Дельмонико, комета рассекала ночное небо, парашютист спрыгивал с Эйфелевой башни, двое воров, пользуясь летней нестрогостью, выносили из ночного Лувра Джоконду, князь Боргезе горделиво выпячивал грудь, выиграв первый автопробег Пекин-Москва-Париж… А где-то в сумраке уединенной гостиной Елисейского дворца мужчина с красивыми седыми усами стискивал в объятиях свою любовницу и вместе с этим последним поцелуем испускал дух.
Это «сейчас», время, в котором одни и те же жесты повторялись бессчетное множество раз, конечно, было оптической иллюзией. Но именно благодаря такому иллюзорному видению мы открыли для себя некоторые существенные черты в характере обитателей нашей Атлантиды. Парижские улицы в наших рассказах постоянно сотрясались от взрывов бомб. По-видимому, бросавшие их анархисты были так же многочисленны, как гризетки или кучера фиакров. В именах кое-кого из этих врагов общественного порядка для меня еще долго звучал грохот взрыва и бряцанье оружия: Равашоль, Санто Казерио…
Да, именно на этих гремучих улицах открылась нам одна из особенностей этого народа – он всегда чего-то требовал, всегда был недоволен достигнутым status quo, всегда был готов в любую минуту хлынуть в артерии своего города, чтобы свергать, сокрушать, требовать. На фоне незыблемого общественного спокойствия нашей страны эти французы казались врожденными бунтовщиками, спорщиками по убеждению, профессиональными крикунами. Сибирский чемодан, где лежали газеты, в которых говорилось о забастовках, покушениях, сражениях на баррикадах, сам походил на большую бомбу среди мирной дремоты Саранзы.
А потом, на расстоянии нескольких улиц от взрывов, все в том же нескончаемом «сейчас», мы наткнулись на маленькое мирное бистро – погруженная в воспоминания Шарлотта с улыбкой прочла нам вывеску над ним: «Ратафья в Нёйи». «Эту ратафью, – уточнила она, – хозяин подавал в серебряных чарках…»
Стало быть, жители нашей Атлантиды могли испытывать сентиментальную привязанность к какому-то кафе, любить его вывеску, ценить присущую ему одному атмосферу. И всю жизнь хранить воспоминание о том, что на углу такой-то улицы ратафью пили из серебряных чарок. Не из граненых стаканов, не из бокалов, а именно из тонких чарок. Это было еще одно открытие: оккультное знание соединяло местоположение ресторации, ритуал приема пищи и его психологическую тональность. «Выходит, по мнению французов, их любимые бистро наделены душой, – удивлялись мы. – Или, по крайней мере, индивидуальностью?» В Саранзе было одно-единственное кафе. Несмотря на его симпатичное название «Снежинка», оно не вызывало у нас никаких особенных эмоций, точно так же, как и мебельный магазин с ним рядом или сберкасса напротив. Закрывалось кафе в восемь вечера, и наше любопытство возбуждали разве что его темные недра, освещенные синим глазком ночника. Что до пяти-шести ресторанов в городе на Волге, где жила наша семья, то они были похожи друг на друга: ровно в семь часов швейцар открывал двери, перед которыми маялась нетерпеливая толпа, и на улицу вместе с запахом пригорелого сала выплескивалась громовая музыка, а в одиннадцать часов та же самая толпа, размякшая и усталая, вываливалась на площадку перед рестораном, поблизости от которой милицейская мигалка вносила нотку фантазии в общий нерушимый ритм… «Серебряные чарки «Ратафьи в Нёйи», -повторяли мы безмолвно.
Шарлотта рассказала нам о составе этого необычного напитка. В рассказе она, естественно, коснулась мира вин. И вот тут, подхваченные красочным потоком различных названий, вкусов, букетов, мы познакомились с удивительными существами, чье нёбо способно различить любые оттенки. А были это все те же строители баррикад! Мы вспомнили этикетки на бутылках, выставленных на полках «Снежинки», и вдруг осознали, что там были только французские названия: «Шампанское», «Коньяк», «Сильванер», «Алиготе», «Мускат», «Кагор»…
Вот это-то противоречие прежде всего и ставило нас в тупик: анархисты сумели разработать такую сложную и стройную систему напитков. Более того, если верить Шарлотте, бесчисленные вина образовывали несметное множество комбинаций с сырами! А сыры в свою очередь составляли истинную сырную энциклопедию вкусов, местного колорита, едва ли не индивидуальных характеров… Выходит, частый гость наших степных вечеров Рабле не лгал.
Мы обнаружили, что трапеза, да, да, обыкновенный прием пищи, может стать спектаклем, литургией, искусством. Как, например, в «Английском кафе» на Итальянском бульваре, где дядя Шарлотты часто ужинал с друзьями. Это он рассказал племяннице историю невероятного счета в десять тысяч франков за сотню… лягушек! «Было очень холодно, – вспоминал он. – Все реки покрылись льдом. Пришлось вызвать десятков пять рабочих, чтобы взломать этот ледник и добыть лягушек…» Не знаю, что нас изумляло больше: невероятное блюдо, противоречащее всем нашим гастрономическим представлениям, или полк мужиков (так мы их себе представляли), разбивающих ледяные глыбы на замерзшей Сене.
По правде сказать, голова у нас шла кругом: Лувр, «Сид» во Французской комедии, баррикады, стрельба в катакомбах, Академия, депутаты в лодке, и комета, и люстры, падающие одна за другой, и винная Ниагара, и последний поцелуй Президента… И лягушки, потревоженные в их зимней спячке! Мы имели дело с народом, отличавшимся сказочным многообразием чувств, поступков, взглядов, манеры выражаться, творить, любить.