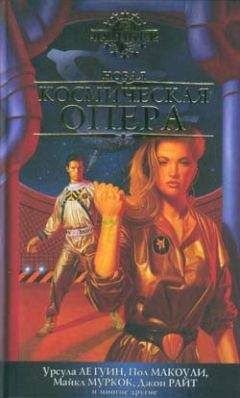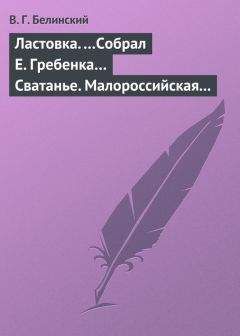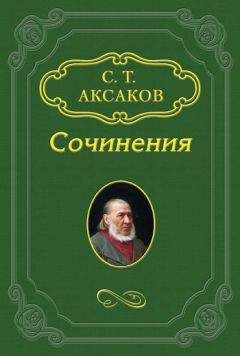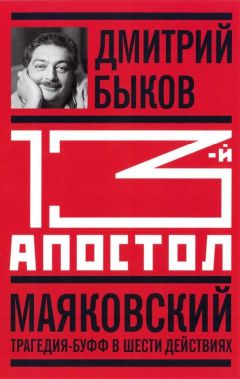Дмитрий Быков - Орфография
— Что такое? — не разобравшись сослепу, крикнул Ловецкий.
— Илья, вы? — узнав голос, спросил от двери Краминов. Света не было, лампу давно не давали.
— Краминов?! — поразился Ловецкий и, не удержавшись, расхохотался.
— Здравствуйте! Черт… где вы тут? Темно, как у негра в желудке…
— Идите сюда. Что, взяли все-таки?
— Вы не поверите, какой бред. Ведь написать — все решат, что вымысел. Пошел вас вызволять… ну и напоролся на патруль! Но подумайте, какое совпадение!
— Ну, ничего случайного тут нет, — задумчиво проговорил Ловецкий, подвигаясь на нарах, хотя места было более чем достаточно. Краминов добрался до него и уселся рядом. — Думаю, за вами следили и арестовали на улице, просто чтобы не вызывать подозрений…
— Какое! Если бы следили, я бы заметил.
— Донесли, скорее всего, эти ваши двое…
— Да ничего подобного, никто не доносил! Это чистый случай…
— Ну, тогда у них выдающаяся интуиция, — покачал головой Ловецкий. — Это надо же так постараться, чтобы взять именно Гувера с Арбузьевым… Краминов закурил и угостил Ловецкого:
— И кончат они, как я и предполагал, — у одной стенки.
— Не каркайте, не каркайте.
— О да! Вы ведь этих считаете большими гуманистами!
— Не гуманистами, а прагматиками, — поправил Ловецкий. — И убивать нас по меньшей мере непрагматично…
— А сажать? Сажать — прагматично?
— Не знаю, — задумчиво сказал Ловецкий. — Но вот посадить и выпустить, по-моему, чрезвычайно прагматично…
— Вы, Илья, как все люди десятых годов, полагаете, что этика — вещь выгодная. А этика как раз в том и заключается, чтобы действовать поперек прагматизма…
— Друг мой! — воскликнул Ловецкий. — Я вас обожаю! Знаете почему? Потому что вам двадцать пять, я на двадцать лет старше, а мы с вами и тут спорим! Это же не зависит от возраста, от обстоятельств, от эпохи, наконец! Как я счастлив, что в вашем поколении есть такие люди. Ведь это чу… чу… чудо! — И он засмеялся. Оба в самом деле были вполне счастливы.
После спора утомленный Ловецкий задремал, Краминов докуривал последнюю папиросу, в узкое окошко полз рассвет, — и тут Оскольцев закашлялся: он отвык от дыма.
— Простите, господа, что я напоминаю о себе… Краминов вздрогнул.
— Ах да, — Ловецкий очнулся от забытья, — я ведь вас не представил. Виктор Александрович Оскольцев, товарищ министра иностранных дел, — Павел Краминов, публицист консервативного направления, ныне житель Крестовской коммуны, волею судеб разоблачающий большевизм изнутри…
— Да в Крестовской коммуне никому дела нет до большевизма, — буркнул Краминов. — Простите, ради Бога, что я вас не заметил.
— Это значит, что я близок к совершенству, — печально улыбнулся Оскольцев. — Когда я его достигну, меня станет совсем не видно.
— И вы сможете выйти незамеченным? — поинтересовался Ловецкий.
— Думаю, мне это уже не будет нужно. Я только одно хотел бы вам сказать… Я советовал бы вам успокоиться. Просто успокоиться и ждать, ничего не планируя и ни о чем не беспокоясь. Мне кажется, что это единственный совет, который я на правах старого постояльца этой камеры мог бы вам дать… и больше я в ваши споры вмешиваться не стану, хотя бы потому, что не совсем их понимаю.
— Чего тут не понять? — Ловецкий пересел к Оскольцеву. — Мы, Виктор Александрович, собственно, ни о чем и не спорим. Какая теперь разница — получал Ленин деньги от немцев или не получал?
— А он получал? — поинтересовался Оскольцев.
— Ну, наверное, получал… но если б и нет — все было бы точно так же. И даже без всякого Ленина. Вопрос в одном: одобрять ли выбор, который сделала история, или бунтовать против этого выбора?
— Да, это только вопрос темперамента, — кивнул Оскольцев. — Правоты быть не может…
— Разумеется, не может! — просиял Ловецкий.
— Важно было высказывать вслух то, о чем молчат, — согласился Краминов. — Интеллектуальные спекуляции, знаете… Но иногда я и сам очень увлекался.
— Так и я увлекался! И мне было очень интересно…
Через три часа товарищ Бродский вошел в семнадцатую камеру.
— Краминов, Ловецкий! — гортанно крикнул он.
Краминов, Ловецкий и Оскольцев были заняты игрой в угадывание мелодий: игра эта была широко распространена в дворянских и чиновничьих семьях начала века. Игроки боролись за право угадать классическое музыкальное произведение с первых нот: побеждал тот, кому требовалось меньшее количество нот. Оскольцев брался угадать с семи, Краминов — с пяти; Ловецкий просвистал два первых такта увертюры к «Лоэнгрину», и Краминов почти угадал.
— Что-то знакомое, — бормотал он, — ну наверняка же знакомое… Немец, да?
Бродский прервал их игру на самом интересном месте и огляделся в недоумении:
— Почему трое?!
— Один уже был, — спокойно ответил Ловецкий.
— Кто именно?! — крикнул бывший сапожник.
— Я, — спокойно сказал Оскольцев.
— Фамилия! — рявкнул Бродский.
— Оскольцев, товарищ министра.
— Почему вы все еще здесь?
— Не знаю, — пожал плечами товарищ министра.
«Это плохо, — подумал Бродский. — Он мог черт-те что им порассказать… Ну, в любом случае надо решать с ними; с этим разберемся».
— Краминов и Ловецкий, за мной, а вы пока сидите, — будничным голосом сказал он.
— Одну минуточку, — вежливо сказал Ловецкий. — Виктор Александрович, что от вас передать?
— Кому? — усмехнулся Оскольцев.
— К кому попадем, тому и передадим, — пообещал Краминов.
— Если действительно выйдете, — не очень уверенно сказал Оскольцев, — мой отец живет на Съезжинской, 25, во втором этаже, шестая квартира… Скажите ему, что я жив. Но не знаю, будет ли это правдой к тому времени…
Он не сомневался, что Ловецкий и Краминов отправляются к совсем другому отцу.
Бродский пропустил заключенных перед собою и вышел, и Оскольцев снова остался один. Впрочем, впечатлений ему хватило надолго. Он успел полюбить этих славных людей — молодого угрюмого и немолодого веселого. Ему нравилась их рискованная затея. И то, что они насочиняли про две коммуны, чтобы его развлечь, тоже было очень весело. Конечно, он разгадал их невинный трюк. Никаких коммун не было и быть не могло.
— Да-с, да-с, — приговаривал Чарнолуский, организовывая чаек и потирая ручки. — А что ж вы думали? На патруль кричать никому не дозволяется! И вы, товарищ Ловецкий, тоже хороши.
— А как вы узнали, что мы арестованы? — поинтересовался Ловецкий.
— А как бы я не узнал? Я все-таки народный комиссар, не забывайте об этом.