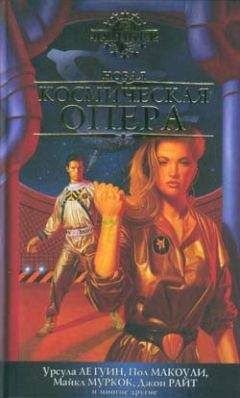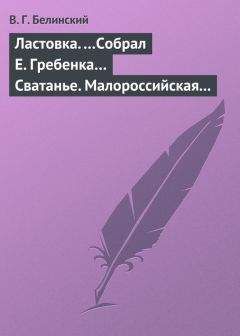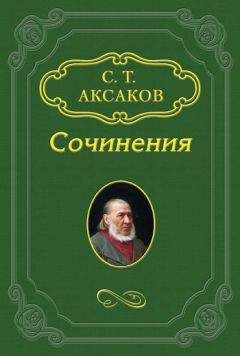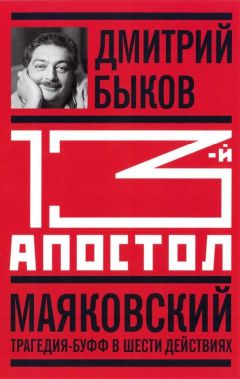Дмитрий Быков - Орфография
Ни Аренский, ни Чарнолуский понятия не имели о том, что Ловецкий не только скромный фельетонист, пишущий под собственным именем, но и главный публицист газеты «Наш путь», укрывшийся под псевдонимом Арбузьев; что публицист этот в действительности придерживается самого пробольшевистского направления; что между ним и его вечным оппонентом Гувером давно уже был заключен договор о ведении как можно более радикальной полемики, пусть даже против собственных убеждений, — дабы сохранить в обществе терпимость к противоположным мнениям; и что, наконец, в результате елагинского раскола так называемый Гувер вслед за друзьями отселился на Крестовский остров, ибо был молод. Главная пикантность ситуации, доставлявшей Арбузьеву и Гуверу немало приятных минут, заключалась в том, что условный сторонник большевиков жил и действовал среди елагинцев, а их условный противник — среди крестовцев, и это давало обоим возможность идеально чувствовать слабые стороны оппонентов. Разумеется, если бы на Елагином вызнали, что Ловецкий и есть тот самый Арбузьев, его погнали бы с улюлюканьем — хорошо еще, если без побоев; впрочем, если бы на Крестовском стало известно, кто таков в действительности Гувер, без рукоприкладства бы никак не обошлось. Оба публициста встречались раз в неделю в редакции «Нашего пути», редактор которого обязался хранить тайну, и, посмеявшись, обменивались убийственными аргументами — после чего расставались как лучшие друзья. И потому арест Ловецкого был глубоко закономерен — новая власть, сама того не желая, взяла-таки одного из двух главных авторов несчастного издания, но, как и во всех своих попытках действовать целенаправленно, схватила не того.
Тот, а именно публицист, умывавшийся под псевдонимом Гувер, отправился к Чарнолускому скандалить и требовать, чтобы посадили его, а ни в чем не повинного Ловецкого выпустили, — но по дороге в Смольный нарвался на патруль. Документы у него оказались в порядке, но командиру патруля не понравились раздражение и странная торопливость интеллигента, который вдобавок стремился в Смольный — а по какому делу, сообщить отказывался; до выяснения обстоятельств его препроводили на Морскую, а на Морской товарищ Аренский, узнав о роде занятий задержанного, радостно приказал отправить его в кутузку.
Получив по своим каналам информацию об аресте двух публицистов, Бродский немедленно поехал в Смольный и доложил наркому Чарнолускому, что отдельные товарищи хватают людей на улице просто так — и пусть потом не удивляются, когда читают в газетах о зверствах ЧК. ЧК не желает иметь к этому никакого отношения. Услыхав об аресте второго «путейца», да вдобавок крестовца, Чарнолуский некоторое время хохотал, потом посидел в оцепенении, написал и скомкал еще одно прошение об отставке, а потом пошел к Апфельбауму. У Апфельбаума уже сидел его несчастный родственник, редактор «Пути».
— Так вы утверждаете… — не поверил нарком.
— Ну конечно! — пожал плечами редактор.
Это был пренеприятный тип еврейского журналиста-дельца, для которого свобода — не более чем товар; он полагал себя тертым калачом, дважды получал предупреждения еще при царизме, как-то раз три дня отсидел в предварилке (но какой редактор там не сидел! — это было вроде нашивки за ранение) и теперь думал отделаться легким испугом. Чарнолускому хотелось выгнать его пинками.
— Вы взяли не того, — самоуверенно и развязно говорил редактор. — Собственно, не следовало бы брать никого… но раз уж вы решили брать кого-то из моей газеты, так я обязан дать консультацию. Господин Ловецкий никогда не писал ни слова против советской власти.
— А кто же писал против?
— Этого я не могу вам сказать, — заерзал редактор, — последнее уложение о печати разрешало не раскрывать псевдонимов… Могу вам только сказать, что поискать врага вам следовало бы у себя под носом…
— Да его, кажется, уже и нашли, — сказал нарком. — Мы лучше информированы, чем вы думаете. Что ж, товарищ Краминов неплохо конспирировался…
— Я вам ничего не говорил, — пропыхтел редактор. Чарнолуский поднялся к себе и походил по кабинету, прикидывая варианты. Ловецкого надо было немедленно отпускать — он и в самом деле был ни в чем не виноват. Его Арбузьев наркому давно нравился. Что было делать с Краминовым — нарком не понимал. С одной стороны, это был замечательный повод, чтобы поставить на место Корабельникова: ты требовал арестов — так вот и арестовывай, враг сидел у тебя под носом. С другой же — в отдаленной перспективе вся эта ситуация могла сработать на решение главной задачи — оставалось только придумать, как с нею разобраться, чтобы взаимно уничтожить коммуны, породившие в своих недрах двух невольных изменников… Коль уж сама судьба сложилась так удачно, что Гувер и Арбузьев попались и раскрылись одновременно, нельзя было упускать случая. Вероятно, обоих надо было выпустить. Вероятно, обоих надо было шантажировать… а верней всего, они и сами охотно поучаствуют в этом замысле. Примерно через час у Чарнолуского был готов план. Он спустился к Апфельбауму.
— Пожалуй, их надо выпускать, Гриша, — сказал он по возможности дружелюбно.
— Обоих? — в недоумении выкатил Апфельбаум бараньи глаза.
— Думаю, да. Они мне понадобятся, чтобы решить наконец елагинский вопрос.
— А что ты скажешь Аренскому?
— Аренскому я ничего говорить не обязан.
И еще через час товарищ Бродский, торжествуя, лично отправился выпускать Гувера и Арбузьева. Так что, когда к Чарнолускому в Смольный ворвался Корабельников, вопрос был уже решен.
— Не беспокойтесь, не беспокойтесь, — сказал нарком. — Возможно, он уже ждет вас там, на Крестовском… хотя сомневаюсь, что он захочет возвращаться именно туда.
— Почему? — взвился Корабельников.
— Ну, знаете, — уклончиво пожал плечами Чарнолуский. — Все-таки семья, родители… Зайдет успокоить, чаю попить… Не хотите чаю? У меня настоящий.
— Я уже пил, — буркнул поэт.
10В семнадцатой камере Трубецкого бастиона к началу всей этой маленькой бури остался один человек, словно уравновешивавший своей неподвижной участью бурные перемены последних пяти месяцев. После увода Ватагина Оскольцев сидел в одиночестве.
Ватагин, всегда флегматичный и даже во время редких вспышек гнева утешительно нормальный, Ватагин, умевший и в тюрьме брюзжать так же, как брюзжал он, бывало, на заседаниях правительства или на газетных страницах, — в последнюю свою ночь что-то почувствовал и метался по камере, как зверь. Оскольцев, который как раз почему-то был безмятежен в тот вечер, не понимал, с чего бы вдруг такие метания; люди вроде Ватагина вовсе не обладают даром дальновидения, по части предсказаний они страшно близоруки и способны улавливать только ближайшие опасности, которые уже — вот, стучатся; Оскольцев был устроен ровно наоборот — он видел только далекое и не замечал того, что под носом. Вот почему в последнее время он успокоился: смерть настолько приблизилась, что вышла из его поля зрения.