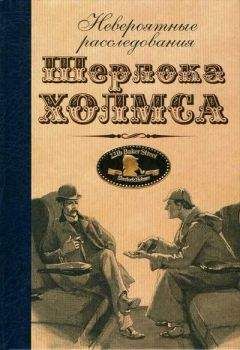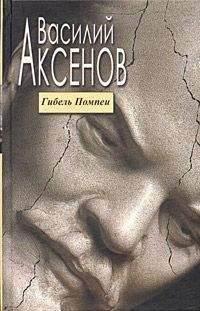Василий Аксенов - Новый сладостный стиль
Взбесившись вдруг от нахлынувших заокеанских забот, АЯ оставил Розу Морозову и отошел к окну. Зачем я влез в эту мегаломанию? Что я могу добавить к тому, что уже существует в мире под знаком Данте? Я слаб и тщеславен, не смог устоять перед соблазном. Деньги Стенли в конце концов извратили мою личность. Никогда уже не вернуться к чистоте ранних американских лет, к благой заброшенности в отеле «Кадиллак», к очереди за католическими завтраками, к влюбленности в принцессу Нору, что сидит в своей археологической башне за три тысячи миль от лысого обожателя. Вот почему она спряталась от меня, почему и Филиппа Джаза мне не показывает, она просто почувствовала коррупцию всего моего внутреннего состава.
Внизу, на площади, как всегда в последнее время, проходил коммунистический митинг. Несколько сот ампиловских подонков стояли под красными флагами, под портретами Рыжего Хорька и Черного Кота. Рядом, не смыкаясь, но и не отделяясь, присутствовали ражие детины под черно-золотыми стягами монархии. Ненависть к тем, кого они называют «евреями», объединяет эти две, казалось бы, противоположные силы. Неужели вот за эту свободу мы тут стояли на баррикадах? За свободу ненависти?
Он взял бинокль, который неизменно здесь теперь лежал с августовских дней. Навел фокус на лица манифестантов. Мразь человеческая, воплощение всего, что он до тошноты презирал на своей родине. Их считают бедными, старыми, угнетенными хищническим капитализмом. Говорите это тем, кто их не знает. Я узнаю эти кувшинные рыла и свиные пятаки, бывших вохровцев, политотдельцев, смершевцев, кадровиков, поносников-выдвиженцев, захребетников-партийцев, начальничков-пенкоснимателей, а главное – стукачей, стукачей и стукачей! Вначале они попрятались, боялись, что будут их вытаскивать на свет Божий, а потом увидели, что новая власть даже палками не отлупит, и стали собираться большими тыщами. Кровожадное старичье подкрепляется молодчиками вполне палаческого возраста. Плодятся их газеты, на телевиденье то и дело появляются их провокаторы. Витийствует парижский писака-большевик, морщится от цитронной эссенции, пронизавшей всю округлую совковую мордочку, вопит: к железу! к топору! Уже набрасывается с железами красная хевра на оробевших перед их знаменами московских ментов. Нынешнее лето журналисты сравнивают с летом семнадцатого. Осенью ожидается окончательный переворот, штурм Кремля. Гиенообразные генералы, не стесняясь и не боясь, проводят встречи верных офицеров, обещают «умыть дерьмократов их собственной кровью», иными словами, убить Ельца, вырезать молодое правительство, провести антизападный террор.
А члены правительства проносятся по городу в бывших цековских лимузинах и делают вид, что не замечают на стенах аршинных букв, призывающих к их уничтожению. Циничные улыбочки распространяются в среде демократической прессы. Стало уже неловко вспоминать Август, настолько густо он заляпан дерьмом дезинформации, изуродован гэбэшным подмигом.
Что же мы тогда тут торчим с нашими «презренными долларами», думал АЯ. Кому помогаем? Русскому народу? Русской интеллигенции? Все опять захапают коммуняги, а нам только в руку дающую плюнут, обвинят в шпионаже. Чувство благодарности, ей-ей, не самая заметная черта в характере русского народа, а о большевиках и говорить нечего. Большевизм тут укоренился навеки, как спирт в алкоголике.
– Алекс, вы в порядке? – тревожно спросила Роуз Мороуз. И как раз в этот момент, как бы призывая отвлечься от мрачных антипатриотических мыслей, прозвучал телефонный звонок непосредственно по его душу. Звонила не кто иная, как бывшая жена Анисья, ныне баронесса Шапоманже.
– Сашка мой, Сашка родной, извини, задыхаюсь, – прежний сладкий голос, с той только разницей, что прежде он струился, как сахарный песок, а теперь липнет, как патока.
Он стоял с трубкой у большого во весь рост зеркала и весь в нем отражался: юношеская фигура в заношенном свитере и старая башка. Сколько ей лет сейчас, этой Анис? Мгновенная калькуляция: Боже мой, этой бабе полста!
– Почему ты молчишь, роднуля, лапуля?
– Просто обалдел, – ответил он и сделал шаг к зеркалу. Что это? На крутом склоне лба обозначилась небольшая плеяда пигментных пятнышек. Ну вот, теперь покатится, плешь заканареется, потом залеопардится, достаточно будет взглянуть на нее, чтобы сказать: а этот что тут вякает?
Откуда она звонит? Надеюсь, из Порт-о-Пренса? Надежда тут же лопнула, она звонила по соседству. Мы вернулись в папину старую квартиру, Саша, в «Дом на набережной», представляешь?! Помнишь, как там было, те ночи, полные огня, еще до замужества, и Андрей, и Володя, и Сережа, Ленка, Тамарка, как мы певали, Саша, только припомни, Саша, ну хорошо, не буду.
Они только что приехали всей семьей. Да-да, и Степа, и Лева, ты их не узнаешь, парижские студенты, красавцы, ну и Альбер, конечно, ну и другие члены семьи, даже домашние животные, ты не поверишь. Конечно, нужно пересечься, пообщаться, ведь не чужие же. Они могут к нему сейчас зайти. Оказалось, что даже ждать не надо: они звонят снизу, и вот все входят. Он шепотом: «Rose, please, stay!» Менеджершу и упрашивать не надо: увидеть такую удивительную встречу!
Близнецы были оба в белых пиджаках. Одинаково выстриженные затылки и свисающие на лоб белокурые, но все-таки с какой-то иудейской продрисью, патлы. Облапили отца без всяких церемоний. Здорово, папаша! Замечательное слово произносилось ими с ударением на последнем слоге, отчего становилось еще более замечательным: папаша!
Анис изрядно располнела, что неудивительно, если вспомнить гаитянскую куриную диету, однако была по-прежнему хороша. Пребывание на тропическом острове не отразилось на ее вкусе, туалет был, как всегда, выдержан в ярких, но неплохо сбалансированных бубновалетских тонах. Хвост иногда давал себя знать, когда ложился у нее между ног во время сидения. Глядя на этот пушистый отросток, Александр Яковлевич не мог не подумать: хорошая ебля все-таки способствует появлению неплохого потомства, м-да-с.
Барон Шапоманже поздоровался с любезностью глухонемого джентльмена. Подчеркивая некоторую относительность своего родства по отношению к Корбаху, он сел чуть в стороне от трогательной мизансцены. Эта позиция, равно как и полное отсутствие движений помогли всем присутствующим, включая как бы случайно пробегающих служащих фонда, обозреть его фигуру во всей ее поразительности. Удивляла исключительная худоба аристократа. Он как будто был анахоретом известной мудрости XX века: нельзя быть слишком худым, как нельзя быть слишком богатым. Еще более странным феноменом казался декадентский монохром его облика, от густой чернильной лиловости под глазами и во впадинах щек до нежнейшей сиреневой пастели костюма. Остроконечность головы роднила барона со стальным пером № 86, что еще и сейчас используется в искусстве каллиграфии.