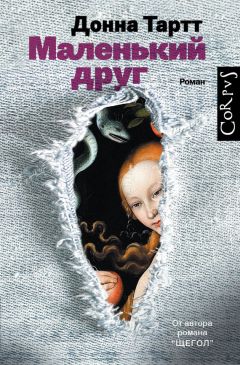Донна Тартт - Щегол
Когда я вечером вернулся от Барбуров, то проглотил долгоиграющую таблетку морфина – я всегда так делал, если приходил домой в покаянном настроении и надо было как-то взять себя в руки: доза маленькая, вполовину меньше того, что мне нужно было, чтоб вообще хоть что-то почувствовать, так, заполировать алкоголь, перестать нервничать и суметь уснуть. На следующее утро, не выдержав (на этой стадии моего плана по завязке я обычно и сдавался, просыпаясь с тошнотой), я раскрошил сначала тридцать, а потом и шестьдесят миллиграммов роксикодона на мраморной столешнице прикроватной тумбочки, втянул порошок через обрезанную соломинку, потом, решив не смывать остатки таблеток в туалет (тут все-таки тысячи на две долларов), встал, оделся, промыл нос спреем с морской водой и, припрятав еще несколько тех долгоиграющих морфиновых таблеток на случай, если от “ломаря”, как говорил Джером, станет совсем невыносимо, сунул в карман табачную жестянку с малиновкой на крышке и – шесть утра, Хоби еще не проснулся – поймал такси и поехал в хранилище.
Хранилище, открытое двадцать четыре часа в сутки, напоминало погребальные сооружения индейцев майя, разве что в холле пустыми глазами глядел в телевизор администратор. Я нервно прошел к лифтам. За семь лет я был тут всего три раза – дрожа от страха, я даже не осмеливался подняться наверх, в свою ячейку, так, нырну быстро в лобби, внесу наличные: за хранение, на два года вперед – разрешенный законом максимум.
Для грузового лифта понадобилась карта-пропуск, которую я, к счастью, догадался захватить. Она, правда, плохо срабатывала, и я пару минут, надеясь, что администратор в отключке и ничего не заметит, стоял в открытом лифте и чиркал карточкой, пока стальные двери, наконец, с шипением не захлопнулись. Нервничая, чувствуя, будто за мной кто-то следит, старательно отворачиваясь от своей зернистой тени на мониторах, я доехал до восьмого этажа, 8D 8Е 8F 8G, шлакобетонные стены, ряды безликих дверей – словно какая-то наборная вечность, где нет других цветов, кроме бежевого, и где пыль не осядет веками.
8R, два ключа и кодовый замок, 7522 – последние четыре цифры номера домашнего телефона Бориса в Вегасе. Дверь ячейки скрипнула, металлически лязгнула. Вот она, сумка из “Парагон Спортинг Гудз”, так и свисает ценник от палатки “Королевский шатер”, $43.99, такой же беленький и новехонький, как и в день покупки, восемь лет тому назад. Торчавший из сумки уголок наволочки основательно шарахнул меня током, по вискам будто электричеством щелкнуло, но сильнее всего меня накрыл запах – пластиковый, прорезиненный дух клейкой ленты в маленьком закрытом пространстве шибал в нос, этот будивший эмоции запах я не вспоминал годами – густая поливиниловая вонь отбросила меня прямиком в детство, в мою комнату в Вегасе: моющие средства, новый ковролин, наволочка прилеплена к изголовью, я засыпаю и просыпаюсь каждое утро с одним и тем же клейким запахом в ноздрях. Я годами толком и не разворачивал наволочку, вскрывать ее нужно минут десять-пятнадцать макетным ножом, но пока я стоял там, охваченный эмоциями (все крутится, путается, почти как в тот раз, когда я ходил во сне и очнулся на пороге комнаты Пиппы, не зная, что делать, о чем и думать), меня вдруг аж затрясло, будто в горячке, от дикого желания: я так долго не видел картины, а тут, только руку протяни – и вот ширится во мне какая-то губительная, алчущая бездна, о которой я раньше и не подозревал. В тени спеленутый сверток – тот его кусочек, который был виден – казался до странного бесприютным, жалким, живым, не бездушным предметом, а скорее каким-то несчастным существом, лежит оно в темноте, связанное, беспомощное, не может никого позвать на помощь и мечтает о спасении. Я с пятнадцати лет не стоял так близко к картине, в какой-то миг думал – не удержусь, схвачу ее, суну под мышку и с ней и уйду. Но я слышал, как посипывают у меня за спиной камеры наблюдения, и – быстрым, судорожным движением – бросил свою табачную жестянку с малиновкой в пакет из “Блумингдейла”, захлопнул дверцу и повернул ключ в замке. “Захочешь завязать, сначала все доешь, – учила меня дико сексуальная подружка Джерома Майя, – не то рванешь в это хранилище часа в два утра”, но когда я оттуда вышел – в ушах гудит, голова кружится, то меньше всего думал о наркотиках. От одного вида запеленутой картины внутри у меня все перевернулось, будто прорвался спутниковый сигнал из прошлого и заглушил все остальные волны.
11Конечно, дни, когда я (иногда) воздерживался от наркотиков, помогли мне не слишком уж сильно увеличивать дозу, однако ломка сказалась на мне быстрее и хуже, чем я думал, и, хоть я и припас несколько таблеток, чтоб слезать было полегче, следующие несколько дней чувствовал я себя препаршиво: меня тошнило, я не мог есть, без конца чихал.
– Простудился просто, – говорил я Хоби. – Все в норме.
– Ну нет, если у тебя еще с желудком беда, это, значит, грипп, – мрачно сказал Хоби, который только что вернулся из аптеки “Бигелоу” с запасом бенадрила и имодиума, прихватив по дороге крекеров и имбирного эля в “Джефферсон-маркет”. – Не понимаю, отчего бы не… Будь здоров! Я бы на твоем месте вызвал врача и не волновался.
– Слушай, это просто какой-то вирус. – У самого Хоби здоровье было железное, стоило ему что-то подхватить, как он тут же выпивал “Фернет-Бранка” и был как новенький.
– Может быть, и так, но ты ведь и не ешь почти ничего. В чем смысл-то – ковыряться целый день в мастерской и делать себе еще хуже?
Но работа отвлекала меня от неприятных ощущений. Минут по десять меня трясло от озноба, потом бросало в жар. Из носа течет, из глаз течет, то вдруг передернет всего как от удара током. Погода наладилась, в магазине толпились покупатели – толкутся, бормочут, на улице деревья в цвету – белые облачка горячки.
Когда я стоял за кассой, руки обычно не дрожали, но внутри меня всего корежило. “В первый раз каруселька еще терпимая, – говорила мне Майя, – сдохнуть хочется после третьей-четвертой”. Мой желудок сворачивался и извивался, будто рыба на крючке; тело ныло, мышцы сводило судорогой, я не мог спокойно лежать, по ночам никак не мог удобно устроиться в кровати, закрыв магазин, я – чихая, лицо красное – забирался в невыносимо горячую ванну и прижимал к виску стакан имбирного эля с давно подтаявшим льдом, а старенький ревматичный Попчик, который уже не мог как прежде ставить лапы на край ванны, садился на ванный коврик и взволнованно за мной наблюдал.
Это все было не так страшно, как мне казалось. Но я не ожидал и десятой доли того, как сильно это все, по выражению Майи, может “вдарить по мозгам” – накрывало нестерпимой, сочащейся ужасом черной завесой. Майя, Джером, моя стажерка – да большинство моих друзей-наркоманов торчали куда дольше моего, и когда они под кайфом принимались рассуждать о том, каково это – завязать (похоже, они только под кайфом и могли об этом говорить), то все они принимались наперебой меня предупреждать, что, мол, физическая боль – это еще не самая жесть, а вот депрессия, даже при моей-то детской зависимости, будет такой, что “мне и не снилось”, а я вежливо улыбался им в ответ и, нагибаясь к зеркальцу, думал – спорнем?