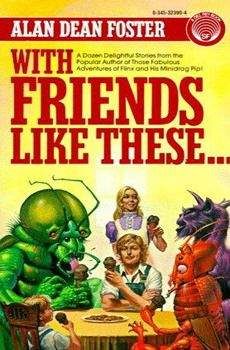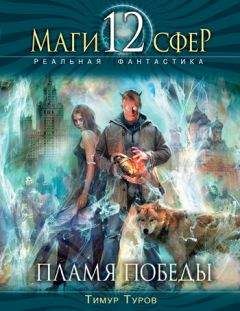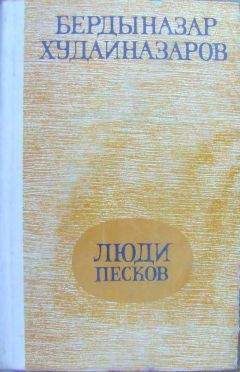Петр Проскурин - Имя твое
Пряча глаза, он торопливо отвернулся, засуетился, пробормотал, что сейчас заварит свежего чаю и чтобы она шла отдыхать в его комнату, а он все сделает сам, сам…
— И правда, пойду прилягу, — согласилась Елизавета Андреевна виновато. — Если будет что нибудь тревожное, разбуди, пожалуйста, сразу.
— Все, все сделаю, Лизонька, не беспокойся! — Елизавета Андреевна слишком хорошо знала мужа, чтобы не видеть того, что за его внешней ровностью с ним что-то происходит, но у нее сейчас не было сил, она слишком устала, она вообще устала жить, и если бы не Шурочка, она вообще не знала бы, зачем существует. После своего возвращения она ни разу не почувствовала к мужу прежней близости, ну что делать, если она устала и он ей безразличен…
Она вышла, легла на диван, закрыла глаза и почти тотчас забылась беспокойным сном. Она уже не слышала, как следом за нею в комнату вошел Анисимов, потоптался возле этажерки с книгами, что-то в полутьме выбирая и часто оглядываясь на нее; затем на цыпочках подошел к дивану и осторожно теплым пледом укутал ноги Елизаветы Андреевны, постоял над нею и поспешил в комнату, где лежала Саша. Ему послышался оттуда какой-то шум, но девочка по-прежнему спала; затененная синей косынкой лампа слабо светила, и в комнате был успокаивающий полумрак. Анисимов осторожно пододвинул стул к кровати больной, сел и раскрыл книгу, изредка поглядывая на лицо спящей девочки. Он то и дело поправлял край простыни, прикрывая ею грудь ребенку, прикосновения к нежному, беспомощному телу вызвали в нем мучительную жалость. Он наклонился, коротко прикоснулся губами к сухому, жаркому лбу девочки, температура не снижалась, и Анисимов в волнении стал ходить по комнате. Заметив, что туфли сильно стучат, он сбросил их, остался в одних носках; то и дело останавливая свое кружение по комнате, он на цыпочках подходил к кровати Саши, задерживая дыхание, всматривался в ее лицо с резкими тенями ресниц и чуть полураскрытыми губами. Анисимов растерянно тер лоб; девочка существовала в самой реальности, и все, что с ней связано, тоже существовало…
Он отходил от кровати больной и снова начинал кружить по комнате, но легче не становилось; жаркое дыхание девочки словно наполняло всю комнату, нечем было дышать, точно боль ее сосредоточилась в одной точке, в нем самом, и эта точка все раскалялась и раскалялась, и он уже не мог оставаться один. Он кинулся было будить Елизавету Андреевну, но мгновенная мысль увидеть ее глаза перед собой, а следовательно, и необходимость что-то ей объяснять, остановила его. Натянулась какая то тугая нить и словно отдернула его назад; ему даже показалось, что Саша проснулась и села на кровати. Нет, нет, не было, ничего не было, сказал он, защищаясь, ничего плохого, страшного, мерзкого в жизни не было, ни убийств, ни подлости, ни другой скверны, а все было чисто и светло. Все плохое бесследно растворилось, исчезло, осталось одно добро, истина, ясный, тихий свет; ребенок, вот эта больная девочка победила все зло, в ней и есть спасение, в ней и есть истина. Боже мой, боже мой, как хорошо и просто! Даже странно, как хорошо… И ничего не надо — ни страха, ни ненависти. Не надо, не надо! Пусть небо будет само по себе, а земля сама по себе, пусть и дальше все так же течет, ровно и тихо. Покой, боже мой, обыкновенный покой, вот чего ему недоставало! Что теперь ему Россия, вот она перед ним, вся Россия, в этом больном ребенке с сохнущими от жажды губами… дать ей жизнь… Ему уже пора складывать оружие, передать другим, если они есть. И не надо унывать, они, такие, есть, найдутся, те, что встанут со своим, новым, ему неведомым, что непременно уже выковала жизнь… А ему — что ж, он свое сделал. Нет, нет, он и сейчас не сдался, он и сейчас не с поднятыми руками, он просто натолкнулся на более высокую ценность, вот и все. Да, да, все, и больше думать нечего, казнить себя нечего…
Он резко обернулся. Вся дрожа, как в горячечном бреду, Саша глядела на него исподлобья, стараясь забиться подальше в угол кровати.
— Мама! Мамочка! Немец! Немец пришел! — отчаянный, захлебывающийся крик, казалось, остановил в Анисимове всю кровь; кожа взялась ознобом, хотя он тотчас сообразил, что у девочки бред, что-то прорвалось в жару из прошлого. Словно парализованный, не в силах пошевелиться, Анисимов глядел на девочку, и уши ему раздирало: «Мамочка! Мамочка! Немец! Опять немец пришел!». Пересиливая слабость, подступающий к горлу спазм, он бросился к кроватке, подхватил девочку на руки, изо всех сил прижал к себе, чувствуя, что скорее умрет, чем выпустит теперь из рук это горячее, трепещущее, жалкое тельце.
— Сашенька, Сашенька, — шептал он в каком-то горячечном ознобе, — да какой же я немец? Что ты, что ты! Русский же я, русский, слышишь, русский я! Ты что, погляди, погляди, родная ты моя девочка! Погляди, это же я, дядя Родя!
Глаза ребенка были по-прежнему далеки, полны безотчетного ужаса, и сквозь задернувшую их пелену, казалось, ничто не могло пробиться. И вдруг в какую-то минуту на миг что-то переменилось, крошечные точки света прояснились, в глазах девочки напряжение спало, и она обмякла в руках Анисимова. В следующую минуту глаза еще больше очистились. Это было похоже на ступеньки, еще одна, еще, еще одна, последняя… У Анисимова затекли руки, но он боялся переменить положение, чтобы не потревожить больную; она, узнавая, потянулась и обняла Анисимова за шею.
— Дядя Родя, дядя Родя… пить… дай воды…
Анисимов опустил ее на кровать, приподнял голову и дал напиться из чашки.
— Спасибо, дядя Родя, ты посиди со мной, не уходи, — попросила Саша и, не выпуская его руки, облегченно закрыла глаза.
— Что ты, Сашенька, я здесь, я никуда не уйду, я с тобой, с тобой.
Анисимов сел прямо на пол, на коврик, чтобы быть ближе к больной, вытянув поудобнее ноги в шерстяных носках. Так и застала их Елизавета Андреевна, тихо дремлющими в мягком свете ночника. У Анисимова, прислонившегося к краю кровати, голова свесилась набок, но руки Саши он не выпускал.
13
Все случилось неожиданно, ударило, как гром. Степан Владимирович Хатунцев, возвращаясь с базара с большой хозяйственной сумкой, из которой торчали завидно ровные темно-зеленые перья лука, пристроенные так, чтобы их не помять, уже недалеко от своей лестничной площадки приостановился, почувствовав неладное. В следующий момент он рухнул, бледнея, выронил сумку и, хватая руками воздух и ничего не видя от застилающей глаза черноты, опустился на ступеньки лестницы; из упавшей сумки выкатилось несколько больших бурых помидоров. Когда на старшего Хатунцева наткнулись, он был мертв и уже холодный; поднялась тревога, дали знать сыну, и затем было все, что бывает, когда человек уходит. Увидев мертвого отца, Игорь растерялся и в первые минуты и даже часы своего одиночества как-то ничего не почувствовал. В квартире все время толклись люди, большей частью мало ему знакомые, которые тем не менее взяли на себя все основные хлопоты. Он что-то отвечал успокаивающим его людям, выслушивал до удивления одинаковые и бесполезные слова утешения; иногда ему хотелось закричать, всех прогнать вон и остаться наедине с тем загадочным и холодным, что всего несколько часов назад было его отцом. Но он пересиливал себя и продолжал в ответ на соболезнования затверженно ровно кивать, тем более что при нем неотступно находился Анисимов, взявший на себя с молчаливого его согласия все руководство похоронами и опеку над ним самим. Все два дня, пока отца не похоронили, он сохранял внешнее спокойствие, лишь после поминок, дождавшись, когда все наконец разошлись и даже Анисимов, задержавшийся позже всех, ушел, сославшись на усталость, Хатунцев, впервые оставшись один в пустой квартире со сдвинутыми вместе тремя столами, заставленными грязными тарелками и пустыми бутылками, как-то явственно осознал наступившее полное одиночество. Он выпил полстакана водки (хотя обычно ничего не пил, кроме сухого), выключил верхний свет и лег на диван. Как врач, он хорошо знал, что у отца было очень больное сердце, но это не могло оправдать и объяснить случившееся. Он знал, что отцы и матери когда-нибудь уходят и уже не возвращаются, но он никогда не думал, что это будет так тягостно и больно. Он представил себе, что каждый раз будет возвращаться в пустую, неприбранную квартиру и что никогда в ней больше не раздастся знакомый глуховатый голос отца… Хатунцев вскочил, налил еще водки, но тут же с отвращением отставил стакан. И потом — это не выход, этим тоже не поможешь. Поколебавшись, он отхлебнул все-таки из стакана, опять лег; усталость наконец взяла свое, и он заснул, а назавтра, осунувшийся, пепельно-серый, закончив обход в возвращаясь к себе в кабинет, встретил Брюханову.