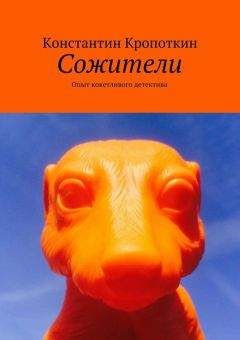Михаил Юдсон - Лестница на шкаф. Сказка для эмигрантов в трех частях
Тут снова, звякнув, как с облаков, зажглась ладонь: «Коль к Мудрецам ты ищешь ход — в вагошку прыгай и вперед!» Да, да, уж никак не назад — вызванивают, пора, мил-друг, уж «Френкелево» отряхает, уж полуувядает Сад и осыпается на Стол, небось… Осень. Дозрел, зовут. Стишки на ладошке. Вот опять тренькнуло — пришло сообщение: «Чем слушать майсы и чесать пейсы — спустись туда, где Старые Рельсы». Дальше полетело сизострунно, до чесотки между пальцев: «Раз не знаешь, где рельсы стареют в тиши — у Рамбама и Раши узнать поспеши», «Забреди в универ, посети его парк — там в заросшей глуши есть заброшенный Фак», «Когда солнечный луч на закате юрк в щель — ты тотчас отправляйся в тот самый тоннель». И напослед засветилось седьмо и закатилось ярко: «Грянут гады — не бойся, влезут звери — не верь, не проси леденечно, Мудрецы не конечны — то еще одна дверь!» Та еще, недоверчиво сказал себе И., скребя ладонь. Пошли, что ли, сходим, осторожно спросил И. себя. Ну давай выберемся как-нибудь, согласился И. с собой, не юля. Куда спешить. В Книге, напомню, нет понятий «рано» и «поздно». Всегда годно. Как надумаешь — так и езжай. В ближайший четверг. Это завтра. Заодно справку амбулаторную из раввината выбей на дорожку: «Он де подлинно является пластелин цапства Ерусалимского, Лазарийский бравирник, Люцифера секлетарь и кульер, Большого и Малого Египта свинарь, Александрийский козолуп, т. е. т. н. И. нихуевыйбезпизды и тыды». Дата примерная… Какой месяц у меня внутри ныне — листопад? Или — ияр, не то июль? Назову его — июд.
2И наступил задний день — день последний, день отъезда. Оттуда, где подъедался, — туда, где будет пища. Посреди присутственных священнодействий И. вдруг встань — все отшатнулись трепетно, замер треп — в тишине он прощально погладил стул по спинке, ласково пнул короб для даров, задал очереди сокровенный вопрос: «Кто крайняя? Соберитесь с духом и думайте…» — и свалил на выход. Сбегая по ступенькам, оглянулся — весь Дворец прилип в рыданьях к окнам, сырел платочками, глаза на мокром месте — упустили, сухарыни, не доглядели…
И. зашагал к университету, следуя инструкциям — «забреди в универ etc, етсли храмотный». Стояла теплая пора долгой первоначальной осени, период терпеливого подсчета подсобранных векселей, медосбора просроченных закладных, время переосмысления вложений в жестяную свинокопилку. Терпко пахло цветущими финиками. Летел цыплячий пух. Медленно спускались сумерки, зажигались светильники, в придорожных корчмах скрипели жернова рыкмузыки и несло жареным чесноком — кончался трудодень, светил уикенд, раблюд тянулся по злачместам — Лазария развлекалась, неподалеку молился Ерусалим, а за тридевять земель замерзала в бобрах песцовых Колымосква.
В универе горели цветные фонари пиитической призменной формы (где ты, Бо, полюбовник и Марф и морфем?), студиозусы парами, группами и в розницу валялись на клевере, подложив связку учебников под голову, болтали, смеялись, глазели, обнажали брюшки и животики, сверкали очочками, хрумкали сушеные бататовые лепестки — «делали осень». Расшитые бисером рюкзачки, майки с глупыми надписями… На гранитном постаменте немножко высилась каменная лохматая голова Первопарха с дразняще высунутым языком — эй, относительные дурачки, осеннее утро мира, сенильное отрочество человечества!
В зарослях гигантских лопухов виднелось старое полуразрушенное строение с оплетенными травой рваными дырами окон — Заброшенный Фак. Головка цилиндра цисты взорвалась при дерзкой лабораторной работе? Или просто — Ненужный? Факультет какой-нибудь хренологии, изучавший шишки времени. Кстати, если наглядеться на разброс студенческих тел, то можно обнаружить, что они выкладывают собой заросший ромашками и курослепом солнечный календарь, «шемеш-камень» — твердое расписание движения вагошки, по инерции размышлял И.
Тоннель, по которому сновала вагошка, начинался прямо от широких, мшистых, с отколотыми краями, ступеней Заброшенного Фака. Видно было, что здесь волокли что-то невероятно тяжелое. Странными, видать, делами занимались на этом факультете. Возможно, по тоннелю подвозили на платформах Книгу — и исследовали ее в лабораториях. Всяко — кислотой, на зуб, прозванивая. Ползали по ней, опутав датчиками, вскарабкивались. Искали ходы-выходы, находили наживку, вслушивались в Живца, подсоединяли к кодам электроды… Наверно.
Сейчас тоннель затух, зарос лопухами, из трещин в бетоне тянулась сорная колючая трава. И из тоннеля тянуло не тово… тылом тела, как выражались колымосковские утонченные дьячки-самоучки. Однако именно туда придется идти, однако. Да, дорогие товы, раззудись тлень-матушка, расправь колечко-крылечко, лети-лети в мать-тьму — кадима!
Где-то в глубине тоннеля, на какой-то отметке пролегали Старые Рельсы, и там двигалась, совершала свои отправления вагошка. «Когда луч на закате юрк в щель…» Как раз шекель солнца плавно валился в прореху за небоскребы реховенюг центра, за Пятую Арнавутскую, за вертизонт Лазарии. Закатный зайчик — пуш-шемеш, расплавленное золотое сечение, симметрия примитивности — прилежно скакнул под тоннельные своды. И. шагнул вдогон.
Дорога была давно не езженная, уже не железная, с остатками прогнивших шпал. Под ногами хрустел шлак, со стен тусклел свет. Тоннель норовил извиваться, ветвиться тупиками-аппендиксами с выступающими из бетона массивными ржавыми вентилями с надписями белой масляной краской «Вторая навигация, седьмой участок», кривыми рядами имперских цифр — XMCC и прочей нечитаемой ерундой.
На очередной развилке И. наткнулся наконец на Старые Рельсы. Рельсы оказались действительно старыми, заржавленными докрасна, стелились из одной темноты и уходили в другую. Сквозно несло холодом. Гелиогрелок здесь в помине нет — околеешь за милую душу. И. приложил озябшее ухо к рельсу — интересно, едет что-либо, ползет? Он хотел бы уточнить насчет вагошки — пыхтит она, пар выпускает или так? Волновало его главным образом — самому толкать не придется?
Тут-то и постиг он возникшую из мрака по графику вагошку. Вагошка — композиционно — являла собой несложное, в простом ключе рассохло поскрипывающее сооружение, чуть-чуть раскачивающееся. Трях-трях… Это было что-то вроде широкой открытой тележки с низкими бортами. И оно двигалось. Как двигалось, один Лазарь знает. Само двигалось. Туда и обратно. Кто-то когда-то запустил, и оно продолжало двигаться, как маятник. Какого-нито видимого движка, мотора и в заводе не было. Колес у вагошки тоже не имелось — вместо них полозья какие-то, атавизм москвалымья, не иначе. И надо было вскочить на ходу, вагошка не быстрая, а где надо — спрыгнуть.
И., запрыгнув, устроился на откидном сидении из белого металла и принялся смотреть по сторонам. Сиденье было на редкость жесткое и вдобавок жутко ребристое — это кому же под стать?! Тоннель в недрах оказался равномерно освещен слабым неживым светочем, чем-то ветхим, этаким гнилиусом. По стенам уплывали назад проржавевшие трубы, пучки дряхлых кабелей, пахло сыростью, капала вода. Кое-где виднелись свежевыкопанные норы.
Из очередной норы, не замедлив, обваливая землю, мотая башкой, встряхиваясь, вылезло огромное страшилище. Это была тварь другого мира — толстое рыбье тулово в мокрой чешуе, колючий гребень на хребте, кривые когтистые лапы, зубастая пасть, из которой клубком вылезали щупальца с глазами. Вся она была покрыта светящейся слизью — «сопливая», как сплевывают москвалымские ухари. Чудовищная зверюга, спаси Лазарь! И. вцепился руками в борта вагошки — выноси, милая! Страшилище тяжелыми прыжками, гулко шлепаясь на брюхо, гналось за вагошкой, как голодные песцы за возком в ледяном Лесу.
Да это же Даг, внезапно доник И., легендарная рыба-зубатка из агадических мидрашей. Помните сон Моше о снулом и вспорхнувшем? Апокрифический рыбец! Горлумица преданий! Вылезла из суши. Верно, дочитался я — вот и повстречал. Это же мои неутоленные желания ползут, страхи потаенные пугают, подсозки за своим хвостом ныряют. Когда мы анализируем действительность в состоянии покоя, наутро, то наш разум еще справляется, похмельно хныкая. А вот ежели в движении… Когда вагошка едет… Тогда хыка выпадает. Вообще занимательно, конечно — когда у рыбы ноги, с когтями. Переходное звено от рыбака к рыбке. Подземноводное. Чуть не шесть тыщ лет этот проект в нас сидит — то-то позвоночник побаливает, костистый… Эх, были бы при себе стрелы с острыми клювами, как в Люке, или верный автоматик «кузя», будто в Саду — шуганул бы гаду! Хотя, может, Даг и добрая — и просто охотно бежит за хозяином, признав, тычется мордой, подгоняя, обнюхивая дорогу… Отогнать бы ее. По россказням, сия рыба кипы ест — и якобы отсюда колымосковское челомканье «ел кипалки». Что ж, рискнем. И. снял с себя верхний головной убор на меху и со словами «кс-кс» кинул его на рельсы — на фарт! — потом швырнул туда же черную фетровую шляпу, и напоследях, оторвав от волос, скормил самое кипу вместе с прищепкой. И вырос Лес, и Огонь, и Вода. И подействовало! Шапками закидал. Довольное чавканье, урчанье, удаляющееся журчанье… Отвязался.