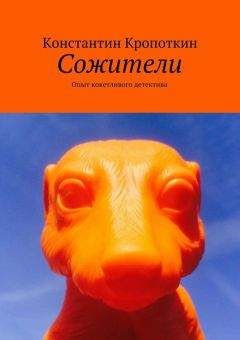Михаил Юдсон - Лестница на шкаф. Сказка для эмигрантов в трех частях
— Вот отступники, что творят, экое непотребство! Давно мы до них добирались, да все как-то оно по спирали… Спасибо еще, наш чип в их бич вшит — чуть что, любой чих — на пульте звенит потихоньку… Вы уж того, не серчайте, что нынче чуток запоздали — интересно было посмотреть, что дальше…
— Они, гады, хотели ледокрыл захватить и Уходить Домой! — срывающимся голосом докладывал Ил. — Мудрецов ругали, Лазаря поносили…
— Это вы молодец, что разузнали. Они будут наказаны, — задумчиво сказал патрульный.
— А как именно? — жадно спросил Ил.
— Ободраны кнутом и прощены. Станут смиренны, покорны и кошерны, не смея боле обращать злато избранничеств в свинейц. Шахер-махеры эти, алхизахен… Поспирали вчуже всуе… Снур халдейский! Их мясо слезет, а кожа заживет… другой жизнью… ближе к Свету… Помните у Бо: «Так рощи делаются проще, лишившись цветности листвы…» А вас награда ждет. Мы вас сейчас в перевязочную.
— Не надо! — охнул Ил.
Но его уже умело ткнули под ухо парализатором — хоп! — и он утих, успев пробормотать только формулу повиновения: «Вот я».
IV. Осень. Мудрец
«Тут Илья Борисович задумался».
(В. Набоков, «Уста к устам»)«Эк куда меня занесло!»
(И. Бродский, «Осенний крик ястреба»)Осенний сумрак заползал в Зал-и-Вал — так теперь прозывался былой Столовый Чертог. Сквозняки, позевывая, кочевали по невеселым нынче коридорам Гранатового Дворца, с известных пор — городского раввината. Роскошные пирушки, пышные клюшки с пунцовым румянцем, вольное чтение по зернышку — славное прошлое, шумное минувшее — все в итоге накрылось белым талесом, свернулось в свиток, обернулось пыльным эхом, обросло мхом, покрылось пушистой плесенью. Вместо громыхающего хохота выпивох и заливистого визга сисястых саский — дряхлое «Ох-хо-хо» ицхаковых басен, как он в лес кого-то поволок, и скрип дверцы шкафа-арона — Плеснь Плесеней.
За господином И. что-то никак не приходили. За время обитания в БВР он побывал уже в шкуре Вреда (процесс превращения), исправительно отмучился Стражем (семь шкур!..), замкнуто настрадался Стольником (рассолу, шкурехи!) — а свята Мудрость не снизошла пока.
После разгрома банды «Уходящих Домой» его доставили в перевязочную, где торжественно, без хихиканья, вручили расшитую серебром перевязь с бантами — знак Приближения. Милостиво сосватали служить в Гранатовый Раввинат — пристроили помощником-размышляющим Шестого Постсоветника, обещав в награду еще золотой жетон за труды. Увидим, глядь. И так голова кругом идет. Жить оставили в прежней каморке на медные деньги, отобрав, правда, книжки и заменив их вавилонским многопудьем Книги — нету башен краше Раши!
Он сидел теперь с утра до сумерек, обряженный в траурной расцветки лапсердачную пару, длинными полами которой оказалось очень удобно протирать свои пыльные разношенные башмаки, а на башке имея сложное сооружение, многочекушечное, как колымосковская ивашка — сначала на макушке черная шелковая кипа, ее покрывает угольного отлива шляпа, а сверху нахлобучен шахорный малахай — одно слово, послал Бог на шапку! — сидел на тяжелом мореного мирта стуле с высокой резной спинкой, оставшемся от стихшего Чертога — стулом можно было в случае чего мужественно жахнуть по кумполу — сидел возле дверей в переставший быть слитным, разбитый на клерковы клетушки Зал-и-Вал — задом не елозил, тазом не егозил, сидел твердо, рассудочно, размышлял колко — коль уж раз размышляющий, мрачно покручивая отросшие прилично пейсы, хмуро поглядывая на просительно заглядывающих в глаза посетителей — раздраженно учил приходящие с улицы яйца с курицами задуматься, одуматься, подумать головенкой, а не обувкой (совал под нос свой тупоносый ботинок), о расщепляющих реальность бесчисленных последствиях послушания совету. Грядущие обузы, зуболишенья… Надо признаться — в рот смотрели, тварюшки!
Оборотившись из секулярного бессребреника-стольника в секущего фишку служку, он теперь нередко с прищуром пялился в потолок, приблизительное небо — искал знаки в морщинах побелки, отлавливал нюансы и периодически, встав к Ерусалиму передом, к Влесу ягодом, пристойно, чуть завывая, произносил нараспев: «ШИАЭАЭ!», словно тешил знаем кого.
«Увы, прошлое пошло на слом. Запустение, увядание, бунение, как бормотал бы Ялла Бо, луна красна — то месячные ночи, едет осень на пегом элуле, отъезд надежд, облезлость, кундалинька, оседлый сплин пронизывает межкопчиковый кряж, вливаясь сквозь бреши в отдушины», — размышлял И., смур и задумчив.
Он тронно восседал в Преддверье на своем стуле, рядом помещался хороших габаритов короб для «хлебов предложений», над коробом висел исчерканный пометками календарь с нравоучительной картинкой — кушающий человек в строгом костюме с галстуком, оторвавшись от бифштекса, красноречиво вскинул ладонь, отказываясь от подносимой рюмки: «Наш ребе не разрешает пить лишнего!»
Нынче у них-нас, пархов, входили чередой осенние праздники: Малый Новый год — закатившийся за хроносову подкладку грош ха-Шана, потом шел Ссудный День — подсчет грехов с процентами и записью в реестр судеб, когда каждый сукин кот обязан порядочно наплакать (и тогда есть шанс, что не лишат мозговой сметанки), затем грядут Дарованные Кущи, по-нашему смешно, суккот — период сиденья в шалаше и обдумыванья дальнейших облапошиваний. И все это время тащат и тащат к подножью стула подношения. Тырят, ибо «тырить» на староорусском — парадокс-с! — значит «нести». Послушно волокут откормленных индюшек — те истошно кричат и потешно бьют связанными крыльями, грохаются мешки с орехами, фляг гром с домашним пойлом, по новогодью доносят мед с ароматными яблоками, чтоб пахло хорошо, а не прежне. Индюшки тянут в разные стороны и ногами дерутся, что твои левиты-страусы, орехи старые, червивые — иногда оттуда сразу махаон вылетает, мед давеча засахарился, яблоки окислились намедни, пойло выдохлось — а эти чучела все всучают! Да с поклонами в пояс, с пожеланиями: «Хорошей записи вам!» А я стерт. Имя мое по букве стирали, глинянно кроша отламывали, трубно проглатывали, оттирали от Мудрости — и осталось просто И. Безродный допотопный Пощипай. Так размышлял И., служка-бедолажка. Изловчился, попал в консисторию — вот и сиди тут, выставлен за дверь, перебирай бумажки, встречай посетителей-замарашек — в массе своей тяжелых психопатов, — сбивай истерику, обламывай заморочки, разъясняй, с какого конца в начале надо редьку есть, заповеди загибай пальцами: «Это неприлично, негигиенично, вам говорят…» Называется, наградили. И. с отвращением оттопырил мизинцем расшитую перевязь, щелкнул, как подтяжками, — да в душу нагадили! Вот спасибо, вот одолжили! Расстарались! Возвеличили!
Он сидел на стуле, моргал устало — в глазах круги от квадратных букв — подпирал дверь, за которую рвались в исступлении просители в поисках света правосудья и вех советов — устных и письменных (из-за угрозы забвенья). Перебирал людишек — ох и снято калек с калек! Дико раздражала диковинная клиентура раввината. Приходили с кислым видом, ровно у них колики, лахудры в косо сидящих париках или лысые страдалицы в туго завязанных платочках — получать разводное свидетельство «гет». Геть видсэля! Не нагулялись? А сто зе вы сегодня вечерком делаете в Низнем Городе? Нет, прочь, прочь похоть, эту маруськину карусель… Трижды проорать: «Изгоняю тебя!» Отныне только возвышенный зов воздержания, мягкая сутулость жерди, вечерние чтения в одиночестве… Баб И. отторгал, не вставая со стула. Ну, допустит минутою милую шалость — нравственность его столь высоченно не простиралась, чтоб порой походя не ущипнуть, — но не более, не далее. Опротивели до полусмерти кипящие праведностью кипастые жиртресты со священными текстами на устах, надоедливой скалкой когтящего нытья выбивающие себе теплые места на скамейках Дома Собраний — поближе к свечам, чтоб божба Ему лучше виделась. И. пытался разумно объяснить клыкастым, что у Него таламус — зрительный бугор — отсутствует. Не верили, интриганы, хотя пархи в принципе внушаемы — взять хоть побасенку эту с жертвенником… Зомби и сын. Крошка юдаизма. Сильный запах! Белый керосин. Миндаль в рацион — циань сивонизма! Пыль, вонь и женские слезы… Бесплодные дылды в шляпках-корзинках (вообще рабби плодятся как кролики, а эти грешным делом подкачали), лезущие в дверь за чудом, сварливые заполошные крики, доносящиеся из-за: «Благослови, батюшка! С каких это схуёт? Ты по себе не суди! У тебя гляди вон какой! Во лоб! Отрастил!», жалобный клекот клерков, увещевания с намеком: «Такие вещи покупаются страданиями…»
Безутешниц посылали за Цфат, под гору Хермон, на могилку праведников — подмыться в кладбищенской микве и помолиться начистоту — смотришь, заплывет живчик, надует животик. Тоже мне некро решение, непоро зачатие, снисхо размышлял И., а я чем хуже — раввин равнин и нагорный советник. Кувшин на кувшин — горе кувшину, камень на кувшин — горе кувшину. Кувшин на кувшинку — салют кувшину! «Скажите, ребе, сколько мы вам должны?» — «Нисколько-с. Не на чем. Я, ребя, проповедую даром, честное аразское». Тебя за так, мамку за пятак, а бабку пусть Авраамка смешит…