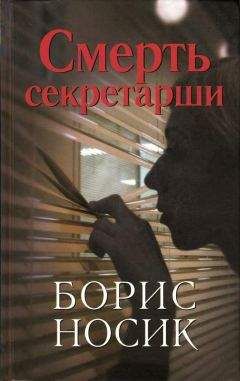Свет в конце аллеи - Носик Борис Михайлович
Когда Саша пошел наконец домой, сквозь его счастливую усталость пробивался страх потери, известный только счастливым. Страх, что она больше никогда не повторится — эта его таинственная способность к созиданию.
Наутро он ждал, что это начнется снова, и долго-долго не мог заниматься ничем другим. Начало было всегда для него тягостно, но на этот раз он испытал настоящую муку, из страха, что он может все испортить плохим зачином, что вообще получится плохо, и вчерашнее чудо не повторится больше, и он будет до конца своей жизни ходить удрученный огромною этой невозвратной потерей, а может, даже застрелится, не стерпев этого ожидания и этой муки (как Хемингуэй или кто там еще?).
Позднее, на протяжении многих месяцев, да и многих лет тоже, Саша не раз вспоминал, как написались эти три (а в конце недели к ним прибавились еще два) стихотворения, вспоминал увлеченность и легкость этого труда, словно бы тяготевшую над ним чужую волю, толкавшую его к сочинению. Позднее он по временам, в неожиданном прозрении памяти, вдруг улавливал связь той или иной фразы с где-то услышанным или некогда прочитанным словом, устанавливал связь образа с виденным некогда сном или смутным видением детства, однако он ни за что не смог бы объяснить, отчего все это, жившее где-то под спудом — в подвалах его памяти, в подсознании, вдруг ожило, вдруг проступило с такой остротою в тот осенний покаянный, фонарным светом пронизанный вечер, отчего зазвучало именно в этих, а не в других — из многих знакомых ему ритмов, что подсказало, поставило на точное место ту, а не другую рифму. Это была одна из многих не раскрытых еще загадок огромного Божьего мира, изобильного тайнами, что сокрыты от маловеров.
Хотя множество красивых, элегантно одетых людей толклись вокруг иностранцев, покупали у них шмутки и были ответственными за интуризм, организовано все было через пень в колоду — авиарейс отчего-то был выбран в середине дня, так что они сидели в раскаленном аэропорту, теряя полдня в Ташкенте и полдня в Бухаре, но главное, Людка обнаружила при этом с удивлением, что современные французские мужчины были нисколько не «шевалье», то есть не только не были рыцари, но даже и никакие не кавалеры — словно, навесив эту лапшу на уши всему цивилизованному миру, они давно устали и от собственной галантности, и от женщин вообще. Конечно, на них влияли, наверное, и волчьи законы капиталистического общества, потому что как объяснить иначе, что они, прихватив свои легкие сумочки, бежали наперегонки в автобус занимать место, а дамы и старухи должны были сами волочить свои чемоданы с тряпьем к автобусу (портье, естественно, прятался, зная, что на чай от этих людей не получишь). Людка помогала им изо всех сил, хотя это вовсе не входило в ее обязанности, а шофера попросить она стеснялась, зная, что туристы ему, скорей всего, ничего не подарят и тогда он будет коситься на Людку. Впрочем, в Бухаре их встречал веселый, молодой шофер Рустам, который и Людку-то почти что на руках вынул из автобуса, а потом покидал заодно в вестибюль отеля и все французские гнидники. Людка рада была из благодарности перевести для него вечный узбекский вопрос насчет джинсов, и они стали с шофером друзья.
По сравнению с Бухарой даже Ташкент был еще довольно прохладный город: над Бухарой дул раскаленный сухой ветер пустыни, так что нельзя было открыть безнаказанно балконную дверь. Позади гостиницы раскинулся новый город — обычные унылые панельные новостройки, но уже зато перед гостиницей была тысяча и одна ночь — какие-то купола, минареты, арки, старинные медресе, глиняные дома, стены без окон…
Наспех перекусив, они успели еще провести экскурсию по Старому городу, где окунулись в лабиринты глинобитных стен с таинственными дверками, за которыми жизнь была скрыта от любопытных глаз, с просторными дворами медресе и сотами монашеских келий.
Экскурсовод называл звучные имена всех этих медресе и мечетей, бассейнов-хаузов и проходных арок: Токи Заргарон, где были лавки ювелиров, Токи-Тильпак-Фурушон, где в Средние века сидели продавцы шапок… Проходя эту арку, Людка обернулась и обмерла — толстый человек сидел и делал шапку (экскурсовод объяснил ей, что это еврей, только не такой, как у них в Москве, а бухарский еврей, у которого родной язык таджикский и который соблюдает все обряды). Людке на мгновение померещилось, что он тут сидел все это время, от самых Средних веков, сидел и делал шапки без перерыва, потому что ведь у них не было в этих местах даже Великой Отечественной войны, которая прервала наш созидательный труд, ворвавшись в довоенное счастье советских людей.
Бухарский еврей увидел Людку и подошел ближе к прилавку.
— Вот так вы все время и делаете шапки? — спросила Людка, и вся группа потянулась теперь к ней и к живому бухарцу.
— Так вот и делаем, — сказал еврей, ослепительно сверкнув золотыми зубами.
Французы стали галдеть, требуя перевода, и Людка уже хотела перевести им что-нибудь насчет шапок, когда бухарец потянул ее за рукав и сказал:
— Переведи им, что у нас хорошо с мясом. Ясно? У нас тут много дают, ясно? Два кило в месяц дают на человека. Ха, а что не дают, так мы и сами достанем. Перевела?
Людка перевела, и французы ничего не поняли — что дают, кому дают, но Марсель, умничка, объяснил им, что люди поедают в этой стране страшное количество мяса, совсем не считаясь со своим здоровьем.
— Если джинсы у них есть, — сказал в заключение шапочник, — тоже можешь спросить, я дам хорошую пену.
Людка, которой уже надоел этот вопрос, сказала ему, что джинсов уже нет, к тому же обстановка сейчас не позволяет. Шапочник, услышав знакомое слово, подмигнул ей, давая понять, что тут у них в Бухаре совсем не такая глушь, чтобы он не понимал, что такое обстановка, так что они с Людкой как советские люди оба знают все, что им надо знать и чего не надо знать иностранцам.
— Переведите им, — сказал шапочник, — что мы живем ничего себе, я в этом году шифоньер брал отдельный и целый гарнитур импортный брал, телевизор тоже брал, за дочкой я взял тысячу рублей, но это не надо переводить, а вот что свадьба стоила полторы тысячи, это, может быть, как обстановка…
Они простились с Людкой очень дружески, а один француз даже купил себе кепку с огромным козырьком, какие носят только кавказцы и некоторые люди в Средней Азии (но, может, они тоже кавказцы, эти люди).
После ужина туристы и Людка еще прошлись по городу в сиреневых сумерках — все здесь было загадочным, каким-то нереальным, не такого цвета, как в России, и костер в конце улицы был странного цвета, а во дворе медресе Ку-кельдаш, превращенного в гостиницу госкомхоза, толстые старые женщины, окутав головы прозрачной фиолетовоголубой тканью, тащили матрасы по кельям, устраиваясь в них на ночь. Они кипятили чай в собственных чайниках, а некоторые из них, попив чай, уже разместились перед телевизором, стоявшим в нише. Шофер Рустам, который в тот вечер вызвался быть их гидом, сказал Людке, что это экскурсия из Намангана, но вообще-то женщины приехали поклониться святым местам, так что это нормальный хадж, то есть паломничество, потому что до Мекки теперь вряд ли кто может добраться, а Бухара ближе, и можно через экскурсбюро.
Потом французы закричали, что им хочется зайти выпить, и Рустам отвел их в небольшую и очень старую мечеть, кажется, даже самую старую в городе, в которой светили фиолетовые лампы и было неуютно расставлено пяток пластмассовых столиков, но главное — нещадно громко вопила из трех больших динамиков бигбитовая музыка, и звуки мешались под куполом мечети в нечто совершенно нечленораздельное (если, конечно, предположить, что бигбитовое пение бывает и членораздельным и членоразличимым). Французы потолкались у прилавка, однако не спешили ничего покупать. Потом они уселись за столиками, время от времени сообщая друг другу, что, может, даже следует выпить не вина, а чего-нибудь легкого вроде воды с сиропом, однако эта пауза так затянулась, что шофер Рустам не выдержал и, протянув бармену трешник, купил на всех кувшин «напитка». Сам он эту воду пить не стал и спокойно объяснил Людке, мучительно переживавшей столь странное поведение ее французов, что «напиток» здесь черпают небось прямо из арыка, только ее какой-то дрянью подкрашивают. Впрочем, французы пили с удовольствием, и только позднее Людка узнала от одной экскурсо-водши, которая целых два раза ездила во Францию, что они там и у себя во Франции тоже пьют воду, подкрашенную черт знает чем, поэтому они и могут целыми вечерами сидеть в кафе и не вылетать при этом в трубу. Когда французы напились, Жильбер спросил у Рустама через Людку, не возражает ли местное население, и тем более паломники, что в древней мечети играет такая громкая и глупая музыка. Рустам, выслушав вопрос, заговорщицки подмигнул Людке и ответил, что бухарцы, как и все советские люди, понимают тот факт, что государству нужна валюта и поэтому туризм — дело государственное, так что все лучшие силы должны быть брошены на туризм, чтобы показать приезжим людям (здесь он оговорился, сказал «приезжим Людам» и покраснел при этом) преимущество нашего строя. Выйдя из бара на улицу, они увидели процессию с факелами — люди кричали, стучали в бубны, трубили в огромные, трехметровые трубы, теснясь вокруг юного нарядного парня, которого почти не было видно из-за толпы. Рустам объяснил французам, что это друзья жениха ведут его на свадьбу, что такая труба называется карнай и что свадьба здесь стоит очень дорого, потому что человек женится один раз и свадьба — это на всю жизнь.