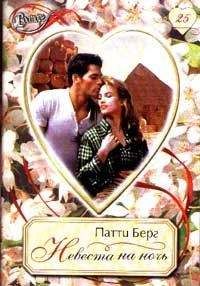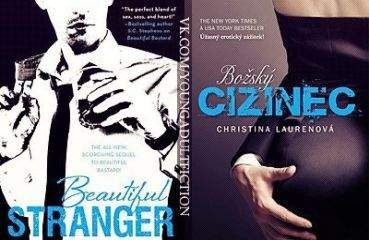Мадам Хаят - Алтан Ахмет
Я смотрел прямо перед собой.
Раньше подобная мелочь не вызвала бы во мне такую бурю эмоций; по мере того как росло мое одиночество, мои эмоции разбухали, как дождевые тучи, и быстро мчались в этом просторном одиночестве, не зная, где остановиться.
Когда мы подъезжали к ее дому, я спросил:
— Что ты делаешь завтра?
— У меня занятия завтра и послезавтра. Но после этого я свободна.
— Я позвоню тебе.
Перед тем как выйти из машины, она наклонилась ко мне и поцеловала в уголок губ. Я почувствовал тепло и аромат конфет.
VI
Я встал рано утром, купил в магазине на углу полбуханки хлеба и сыр чеддер. Вернулся на кухню, положил хлеб на тарелку и оставил на столе. Стоя у плиты и наливая себе чаю, я услышал за спиной голос Гюльсюм:
— Чей это хлеб?
Обернувшись, я ответил:
— Мой.
Она стояла передо мной. Словно посреди кухни прошлого века приземлился разноцветный космический корабль: узкая мини-юбка облегала бедра, сиреневая спортивная куртка с застежкой-молнией, расстегнутой почти до пупка, обнажала большую часть груди, туфли на высоком каблуке сорок четвертого размера, растрепанные черные волосы с локоном, выкрашенным в блонд, потекшая тушь, превратившая ее глаза в фиолетовую маску, перламутровая помада, поплывшая с губ. Как всегда, я был слегка ошарашен.
— О боже, — сказала она, — я думала, это кто-то забыл, умираю с голоду.
— Можешь взять половину, — сказал я. — Хочешь чаю?
— Ой, с удовольствием…
Она разрезала хлеб пополам и стала есть. Я принес чай и сел напротив. С аппетитом жуя, она рассказывала:
— Ей-богу, к утру я думала — помру, эти два мужика меня просто растерзали. Подрядчики. Недавно работают. При деньгах. Сутенер просто не устоял. Они драли меня до самого утра.
Помолчав, она рассмеялась.
— Но заплатили хорошо. Я разваливаюсь, но, ей-богу, оно того стоило. Они еще придут.
От нее пахло алкоголем, казалось, она все еще пьяна. Несмотря на нахальные слова, в ее голосе слышалась невинная радость бедного ребенка, нашедшего монетку на дороге, однако я несколько раз был свидетелем того, как эта невинность очень быстро сменялась оскорбительной грубостью. Однажды она принесла Тевхиде конфет — она очень любила девочку, как и все мы, — но когда Эмир, который не хотел, чтобы ребенок ел сладкое, сказал: «Тевхиде не ест шоколад», милая тетушка моментально превратилась в сварливую мегеру и с криком: «Что, я не имею права дать шоколадку твоему ребенку?» набросилась на Эмира. Скандал был предотвращен смехом Тевхиде, которая сказала: «Как же ты смешно злишься, Гюльсюм!»
— Могу я спросить тебя кое о чем? — немного робея, произнес я.
— Давай, попробуй, — сказала она, — за таким вопросом часто следует какая-нибудь замысловатая хрень, но спроси… Итак?
Вообще, я собирался спросить, каково это — носить в одном теле мужчину и женщину, ищущих друг друга, желающих и влюбленных друг в друга, но побоялся, что это будет «замысловатая хрень», и спросил совсем другое:
— Почему мужчины идут к вам, а не к женщинам?
— Мужики хотят нас, мы лучше знаем, чего они хотят, мы их окрыляем… Они находят то, чего не могут найти в женах.
Чтобы сменить тему, я спросил:
— Какая твоя самая большая мечта, Гюльсюм?
Откинувшись на стуле, она переспросила:
— Моя самая большая мечта?
— Да.
Она оперлась локтями на стол, лицо ее было серьезным.
— Посмотреть матч Дерби на стадионе, — сказала она.
— Матч? — переспросил я удивленно.
Гюльсюм резко разозлилась.
— А что, — сказала она, — только мужики ходят на матчи? Почему это я не должна идти?
— Нет, я не это имел в виду, — пробормотал я под нос. — У тебя есть кто-то, кого ты любишь или о ком мечтаешь?
Она скорчила гримасу скорбного негодования.
— Есть тут одна скотина, повар в ресторане. Нажирается, возбуждается, Гюльсюм, приходи, мол… И трахает до утра в подсобке. Я спрашиваю его: «Любишь меня?», а он мне: «Очень люблю тебя, Гюльсюм». А как только насытится, никогда не перезвонит, если только ему опять не приспичит. Когда встает, так все всех любят, а ты попробуй любить, когда упадет. А где такого мужчину взять? Прогни для него спинку, а потом отвали… Все вы одинаковы.
Я учил на кухне новый турецкий, совершенно новый, где слова имели отличные от общеизвестных значения.
— Чего ты на меня наехала? — сказал я. — Бесишься на ровном месте…
Я произносил слова неуклюже, словно только научившийся говорить ребенок, но, поскольку Гюльсюм привыкла к таким словам и слышала только их, она не заметила моей неуклюжести, отчасти, возможно, потому что была навеселе.
Она рассмеялась:
— И правда, что-то меня понесло. Вот что случается, когда я вспоминаю о своем медвежонке. Я и скучаю по этой скотине, и злюсь.
Мы одновременно откусили хлеб.
— Разве твоя работа не опасна?
— Конечно, опасна… А как иначе? Лежишь под незнакомым мужиком, то ли он порядочный, то ли вор какой — непонятно, отвернешься и не заметишь, может, у него нож с собой.
Гюльсюм дожевала ломоть. Встала.
— Спасибо за хлеб, — сказала она, уходя. — Пойду спать. Смерть как устала…
В дверях она столкнулась с Поэтом, и я увидел, как пьяная улыбка исчезла с ее лица, сменившись почтительностью, которую можно увидеть на лице паломника, встретившего святого старца.
— Как дела, Гюльсюм? — произнес Поэт, похлопав ее по плечу.
— Я в порядке, братец, вот вернулась с работы, иду спать.
— Давай, хороших снов, — сказал Поэт, подходя к самовару, и добавил со смехом: — А ты так и не ходишь через двор?
Гюльсюм смутилась.
— Не могу, братец… Мне влетит.
— Как-нибудь пройдем вместе, — сказал Поэт.
Когда Гюльсюм ушла, я с любопытством посмотрел на него.
— Видел в конце улицы маленькую мечеть? — спросил он меня.
— Да.
— Так вот, все срезают путь через двор, а Гюльсюм там не может пройти, идет до площади и поворачивает уже оттуда, потому что считает, что если подойдет к мечети, то ее покарает Аллах, думает, что не имеет права приближаться к мечети, потому что грешна.
Я с крайним удивлением спросил:
— Гюльсюм верующая?
— А почему бы и нет, разве она не имеет права быть набожной?
Мне стало стыдно за то, что я сказал. Поэт рассмеялся.
— Она считает, что Богу всерьез есть дело до людей, — сказал он.
Я тоже засмеялся и спросил:
— Разве нет?
— С чего бы вдруг? Бог давно пожалел о том, что сделал, и попытался поскорее забыть. Я уверен: он вырвал эту страницу из своего дневника.
Поэт допил чай, вымыл и вытер стакан.
— Что случилось с парнями, которых забрала полиция? — спросил я.
— Их арестовали.
— В чем их обвиняют?
— Найдут, в чем обвинить, что, сложно преступление придумать?.. Ладно, — сказал он, подходя к двери, — мне пора идти, но давай как-нибудь сядем и поговорим в удобное время.
— Давай, — сказал я.
Я знал людей ровно настолько, насколько позволяли романы, открывающие мне бесконечное разнообразие человечества. Люди всегда становились понятнее в ярком свете литературы. Но когда я впервые в жизни увидел людей в свете собственного разума, без использования какой-либо другой линзы, я понял, что совсем их не знаю. Никогда бы не подумал, что самой большой мечтой Гюльсюм было попасть на матч. Но еще больше меня удивило то, что Гюльсюм винила себя, а не своего, как она считала, Творца за то, что ей пришлось пережить, через что пройти, за работу, которую пришлось выполнять, за все те опасности, с которыми она столкнулась. Позднее, когда Гюльсюм получила ножевое ранение и ее отвезли в больницу и мы с Вышибалой пошли ее навестить, она считала себя в ответе не только за то, что с ней случилось, но вообще за все, полагая, что это Бог наказывает ее и ее близких. Она плакала, вытирая глаза кончиком муслинового платка, которым повязала волосы. Несмотря на то что я прежде никогда не прикасался к ней, я держал ее за руку, твердя: «Не переживай». Вышибала сказал: «Что ты несешь, Гюльсюм» — грубо, но гораздо дружелюбнее, чем я, потому что у него в голове было не так много разных чувств и мыслей, как у меня. Я любил людей, может быть, больше, чем их любил Вышибала, но эта любовь теряла свою чистоту и честность из-за мыслей, суждений, обвинений, питаемых предрассудками.