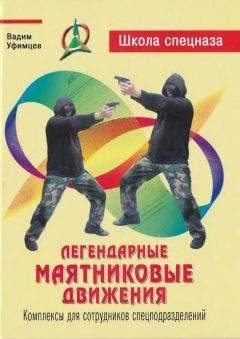Вторжение - Гритт Марго
М. открыла бы дверь, я знаю. Мне казалось, я чувствую ее взгляд. Черт, черт, черт. Не люблю, когда меняются планы.
– Заходи.
Смуглое, ссутулившееся, угловатое свидетельство моей вчерашней слабости сидело на верхней ступеньке и играло в Angry Birds.
– Ничего не трогай, – сказал я. – Сиди тихо, чтобы ни единого звука.
– А кофе можно?
– Кухня там. Для особо одаренных повторяю: ни единого…
«Печеньки нашла!» – донеслось из кухни, и я пожалел, что впустил ее обратно.
Восемь часов назад она смотрела новости: режим ЧС, затопленный туннель, обрыв линий передачи, двое погибших… Ведущий имел в виду: «Дружочек, ты застрял».
– Да выключи уже наконец! – не выдержал я.
Оставшись в одной футболке, она бродила по комнате, заставляя меня нервничать – я ждал, что она обязательно что-нибудь стащит.
– Ой, это ваше? – Она заметила в углу черный футляр. – Это же контрабас?
Мне хотелось пошутить, мол, ого, проститутка и разбирается в музыке, но сдержался.
– Ага. Играл в оркестре. Уже нет.
– Почему?
– Выгнали.
– Почему?
– Потому что пил.
– Почему?
– Что ты как дите малое, почему да почему? Не твое дело.
Она подошла к рабочему столу.
– Кто это? – наклонилась к снимку, пришпиленному к лампе.
Счастливые мы, я и М., после того как она шепнула мне на ухо: «Я буду любить тебя до тех пор, пока наш траходром не превратится в овощебазу», и тетенька в сиреневом платье, не понимая, почему мы ржем, пробормотала: «Можете поцеловать невесту». Я отчетливо помнил брошь в виде стрекозы на ее выпирающей груди, значит, уже был пьян.
– Не трогай! – рявкнул я, потом сдержанно добавил: – Не твое дело. Сядь и заткнись.
Я курил, пытался читать, что-то из Пелевина. М. читала его, и я хотел понять почему. Перечитывал одну и ту же строчку снова и снова и никак не мог врубиться, о чем речь.
Конечно же, ее хватило не больше чем на пять минут:
– Что вы читаете?
Да твою ж мать.
– Почему ты все время выкаешь?
– Мы с вами незнакомы.
«Господи, да я же в рот тебя имел!» – хотел возразить я, но промолчал.
Шесть часов назад она спросила:
– Может, сексом займемся?
– Налички нет.
Она запустила руку под футболку, растягивая мордочку Микки-Мауса в широкой ухмылке.
– Бесплатно.
– Не надо.
Убрала руку, посидела молча, потом выдала:
– Волгоград.
– Что Волгоград?
– Вам на «дэ».
Я застонал.
– Ну, хорошо. Не хотите в города, давайте в «правду или действие».
– Окей. Давай ты выберешь действие и свалишь из моей квартиры. Слабо?
– А если правду?
– Что, ждешь, что я начну расспрашивать? Как ты докатилась до жизни такой? Расскажешь мне, какая ты бедная-несчастная, невинная овечка, торгуешь телом только из-за больной матери или отца-наркомана, а я пожалею тебя, спасу, и все закончится как в «Красотке»?
– Нет.
– Ты не Джулия Робертс, да и я не Ричард Гир. Мне неинтересна ты и твоя сраная правда, понятно? Спасать я тебя не собираюсь. И знать о тебе ничего не хочу.
– Даже не хотите узнать, как меня зовут?
– На кой черт мне знать, как зовут первую встречную шлюху? Этот гребаный ураган когда-нибудь закончится, и я больше никогда тебя не увижу.
Она помолчала, потом чуть слышно проговорила:
– Астана.
Кажется, за все часы, проведенные в одной квартире, я впервые посмотрел ей в глаза. Они были цвета пива. До одури хотелось темного нефильтрованного, а больше ничего в них и нет. Вздохнул.
– Астрахань.
– Нижний Новгород…
Где-то на Туле отрубилось электричество.
Два часа назад мы лежали в темноте, на раскладном икеевском диване, необитаемом острове, куда нас вынесло с двух разных посудин. Меня – с груженного ромом пиратского корабля, ее – с пассажирского лайнера, столкнувшегося с айсбергом.
– Есть хочется, – протянул я.
– Закажем пиццу?
Мы одновременно расхохотались.
Я подсвечивал фонариком на телефоне кастрюлю, в которой она помешивала найденные в глубине шкафа макароны. В холодильнике завалялись засохший кусок голландского сыра и полупустая пачка кетчупа. Мы пировали.
Потом искали чистые кружки.
– Молния полыхает, как светомузыка в клубе, – улыбнулась она и начала танцевать, двигаться в ритме, слышном ей одной.
Ей не нужна была музыка, она вертелась, нелепо дрыгала руками и ногами, не изгибаясь призывно, как прошлым вечером в баре, а легко, свободно, и я подумал, она вовсе не хотела быть спасенной. Это я хотел спастись.
За исхлестанным каплями стеклом свет рассыпался, как в стробоскопе.
Она потеряла равновесие и задела рукой кружку. Уродливую кружку, которую М. сделала на мастер-классе по керамике. Кружку, из которой по утрам М. пила приторно-сладкий кофе. Кружку, на которой оставался отпечаток ее губной помады. Кружка разбилась, и я закричал.
Я кричал, кричал, повторял, что должен был выгнать ее с самого начала, что не стоило ее жалеть, что она и так разрушила все мои планы, а теперь разрушила то последнее, что… Сука, сука, сука! Замахнулся, хотел ударить, но увидел лицо – маленькое, сморщенное, испуганное. Такое бывало у М.
Батарейка на телефоне села, и фонарик погас.
Последняя сигарета в пачке. Со вкусом дыни. Отвратительно. Такие курила М., поэтому курю я.
В слабом свете зажигалки я изучаю ее. Стертые коленки. Чернильные розы по низу живота. Застиранная футболка, сосок точно уткнулся в зрачок Микки-Мауса. И глаза цвета темного нефильтрованного. Какого цвета были глаза у М.?
Затягиваюсь, передаю сигарету. Спрашивает:
– Какие планы были на сегодня?
– Что?
– Ты сказал, я разрушила твои планы. Какие?
Благодарю электрического бога, что отключил свет и вместе с ним необходимость смотреть на нее.
– Собирался покончить с собой, – отвечаю я. – Придется перенести на завтра.
Огонек на кончике сигареты вздрагивает.
– Завтра воскресенье, – говорит. – У меня никаких планов.
Ушла, как только стих дождь. За сигаретами. Знаю, что не вернется. Я бы не вернулся.
Догнал на лестнице, спросил имя.
Ее тоже звали на М. Я тоже ничего о ней не узнал.
common people
I wanna live like common people
I wanna do whatever common people do.
Ты вернулась из Лондона, где изучала скульптуру в колледже Святого Мартина, с новой стрижкой, серебряным колечком в носу и порастраченным за два года запасом русских слов – последнее явно было притворством, ну кто поверит, что вместо «метро» тебе легче выговаривать подчеркнуто английское underground? И эта твоя якобы искренняя морщинка между бровями: «Как это будет по-русски?» В общем, ты успела взбесить меня за первые две минуты, пока мы шли от «Кропоткинской» к Пушкинскому музею. Если честно, я не знал, о чем с тобой говорить, поэтому выбрал вариант, который казался самым надежным: пригласить тебя туда, где говорить не придется – только слушать, как ты вполголоса объясняешь мне разницу между эллинской скульптурой и римскими копиями, и не забывать вставлять многозначительное «хм» в паузах. Я думал тебе угодить. Но в итоге мы три часа проторчали в буфете, приткнувшись на барных стульях без спинок к узкой стойке, липкой от разлитого кем-то кофе. Ты хотела – правда хотела – заплатить за латте и чизкейк сама, но забыла пин-код от кредитки, так что пришлось платить мне. Мы, конечно, пошутили про патриархат, и я соврал, что не голоден, обошелся чаем за семьдесят рублей. Мы все еще не знали, о чем говорить, поэтому по старой привычке глазели на посетителей, выдумывая для них профессии типа надзирателя в исправительной колонии для трудных шимпанзе, хобби вроде коллекционирования пупочных катышков и преступления, за которые их могли разыскивать: