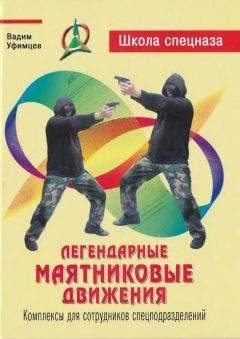Вторжение - Гритт Марго
– Пап, озеро. Ты обещал озеро показать.
Иришке не нравится мерзнуть меж надгробных плит, она скоблит носком притоптанный снег.
– Завтра на озеро пойдем, завтра.
Хризантем не различить на белом. Мама безучастно смотрит на мои попытки отполировать рукавом дедушкин портрет. На нем он особенно похож на Толстого… Мама долго стоит, опершись на оградку. Снег покрывает землю на свежей могиле. Выпросил зимние каникулы в деревне, будто знал. Размазанные по щекам слезы стынут на морозе, я дергаю маму за пальто. Ее лицо, что с ним не так? Такое лицо бывает, когда она пьет таблетку от головной боли. В ее глазах что-то, чего я не могу разгадать, сколько ни всматриваюсь. Совершенно сухие, совершенно…
– Ну, не чокаясь.
Пьем водку вдвоем на кухне. Третья рюмка накрыта куском белого хлеба.
– Мам, давно хотел спросить… Почему ты не плакала тогда, на его похоронах?
Мама кривится от беленькой, тянется за пирожком.
– Двадцать лет прошло, Юр, что толку вспоминать.
– Мам.
– О мертвых либо хорошо, либо ничего…
– Кроме правды. Переврали цитату.
Приземистый рыжий сервант – четыре ножки, облупившийся лак, за стеклами пылятся остатки польского чайного сервиза – почему-то мама проводит пальцем по глубокому белому сколу на нижней дверце, что болтается на петле.
– Бляха тяжелая была, латунная…
Мама трет скол, глубокий белый шрам на лакированном дереве.
– С якорем, как сейчас помню.
Острый скол царапает палец.
– Промазал вот однажды.
Мама все трет и трет.
Тогда, на кладбище, в одиннадцать лет, я не мог разгадать, что было в ее глазах.
Облегчение.
Хватаю рюмку, ту, что накрыта хлебом с солью, и швыряю ее на пол, проливая водку. Она не разбивается, только катится и стукается о ножку серванта. Нет, не хватаю. Не катится. Только представляю, сжимая рюмку так, что на ладони отпечатывается рисунок, похожий на морозный узор.
– Папа! – Иришка в дверях хлопает ресницами спросонья.
– А ну, в кровать! Живо! – рявкаю я и сам пугаюсь собственного голоса.
Морщит лоб, сейчас заплачет.
– Прости, прости, милая, – прижимаю ее к себе, щекой к щеке, к моей щеке, пылающей, будто ее обжигает раскаленное солнце. – Папа не хотел кричать, прости…
Утренний туман над озером. Тонкий лед как пленка жира на остывшем бульоне. Иришка потеряла варежку и греет пальцы в кармане моей куртки, ей так удобно. Сжимаю осторожно ее маленькую ладонь, хрупкую, теплую, как крыло пташки… Крылья бьются в руках, черный клюв норовит ущипнуть, но дедушка старательно распутывает сеть вокруг лап, ругаясь вполголоса на местных рыбаков. Цепляясь за борт лодки, разглядываю нырка. Бурое тельце трепещет. Глупая птица не понимает, что ее спасают.
– Ну, удачи, водолаз. – Дедушка наконец выпускает нырка. Тот, неблагодарный, плывет к камышам не оборачиваясь.
– Уже который по счету? – спрашиваю.
Дедушка пожимает плечами.
– А сколько нырков нужно спасти, чтобы искупить вину? – говорит тихо. – Вот так задача, Юрка…
Смотрю на замерзшее озеро, глаза слезятся. От ветра, наверное. Не знаю, был ли разговор на самом деле, или я только что его выдумал. Мы много в то лето нырков спасли.
суббота
Последняя сигарета в пачке как последний патрон, оставленный для себя, когда на необитаемый остров опускается ночь. Смерть нетороплива и со вкусом дыни.
Затягиваюсь, передаю ей сигарету. Молча курит.
Двенадцать часов назад я растолкал ее. Она разглядывала меня так, будто играла в «Где Уолли?».
– Не найдешь, – сказал я.
– Что? – Она протерла глаза каким-то детским движением, и я почувствовал, что меня сейчас вырвет.
– Проваливай, – крикнул я из ванной, вытирая рукой рот.
Легче, но в голове провинциальный оркестр репетировал военный марш. Особенно старался маленький барабанщик.
Я шарил по полкам в поисках аспирина. Она прильнула к двери.
– Можно в душ?
– Проваливай, – повторил я.
Она выгибала спину на отвоеванном клочке танцпола. Из-за пролитого кем-то коктейля липли подошвы. В рокоте электронной музыки я не расслышал ее слов, и она сделала знак peace перед моим лицом.
– За час? – я гаркнул ей в ухо.
Кивнула.
– А за всю ночь?
– Что? Не слышу.
– Ночь! – Я описал руками круг, чуть не выронив стакан с виски. Полупустой, к счастью. Гремящий нерастаявшим льдом и четвертый по счету.
Прочел ответ по губам. Короткий кивок в сторону выхода, и мы уже у края тротуара ловим такси.
Начинается дождь.
Она поднялась за мной по лестнице. Сбросила туфли и выглядела беспомощной.
– Мне надо в туалет, – сказала она.
Будь мы героями романтического фильма, я бы притянул ее за волосы, отработанным движением расстегнул верхнюю пуговицу на джинсах и толкнул на диван. Но в гребаной реальной жизни ей приспичило поссать.
Синий свет от проезжающей за окном скорой выхватил из темноты контур лампы, ряд грязных кружек на рабочем столе, раскладной икеевский диван. Последний бесстыдно выставлял развороченное брюхо смятыми простынями наружу. Боженька наградил человечество суперспособностью напиваться до беспамятства. Я же, когда напивался, помнил каждую деталь.
– У вас слив не работает, – сказала она. Ведь именно так у всех нормальных людей начинается прелюдия.
Сняла футболку. Под ней ничего не было. Никакого соблазнительного кружева, шершавого и колючего, которое оставляет отпечатки на коже. Никакого дорогущего белья, которое стягиваешь, не успев разглядеть. Ничего похожего на то, что надевала для меня М.
Она не смотрела на меня. Так избегают смотреть в глаза дикому зверю. Стянула джинсы – я думал, под ними тоже ничего не окажется, но увидел практичные хлопковые бесшовные трусы. Практичное хлопковое бесшовное тело приблизилось, встало на колени. Чужое, незнакомое, купленное второпях, как очередная тряпка на распродаже, только потому, что кто-то зачеркнул ценник.
Положив руки на ее затылок, я не мог отвести взгляд от сморщенной мордочки Микки-Мауса на футболке, что осталась на полу. Казалось, он мне подмигивает. Когда она отпрянула, размазывая по губам белое, липкое и оплаченное, раздался грохот – ветер распахнул окно, и молния вспорола брюхо окружавшей нас темноты. Я тогда еще подумал, как вовремя кончил – от неожиданности она могла бы меня и укусить.
Утром, одиннадцать часов назад, когда я выполз из ванной, она сидела на диване, уставившись в телевизор.
– Ты все еще здесь? Мы рассчитались. Проваливай.
– Не могу.
– Послушай, нет у меня больше денег. Я и так накинул сверху. У меня на сегодня планы, так что будь добра…
– Но я не могу, – повторила она и показала на экран. – Штормовое предупреждение.
Сравнительный анализ изображения за окном и картинки в телевизоре показал: я, мать твою, попал.
– Вызови такси.
Она зарылась обратно в простыни.
– Пыталась. Связи нет.
– Значит, дойдешь пешком!
– Улицы затопило, как я пойду?
– Да мне насрать! Ты должна уйти.
У меня, в конце концов, планы. Я должен был остаться один.
Пока она искала за диваном свои хлопковые и бесшовные, я ушел на кухню. Ткнул электрический чайник, нажал на кнопку «предварительная стирка» и открыл кран, чтобы набрать воды в фильтр. Кухня наполнилась мурлыкающими, булькающими и шипящими звуками, но даже этот наспех сотворенный ансамбль не мог заглушить шума грозы и тошнотворных мыслишек.
Заложник в собственной квартире.
Мне не хотелось дотрагиваться до нее, но переговоры – не мое. Она не сопротивлялась, когда я схватил ее за плечо и подтолкнул к выходу.
– Пережди на лестничной клетке, – буркнул я и захлопнул дверь.
Десять часов назад я наблюдал, как ветер старательно гнет крышу соседнего дома, и размешивал кофе. Я пью без сахара, но сейчас кинул два кубика. Хотел узнать, какой вкус был у кофе, который по утрам пила М. Она бы посмеялась надо мной: «Вот чудик, надо же так обмишулиться!» Уж не знаю, из каких пыльных словарей она вытащила это дурацкое слово. Повторяла его частенько. И конечно, по отношению ко мне.