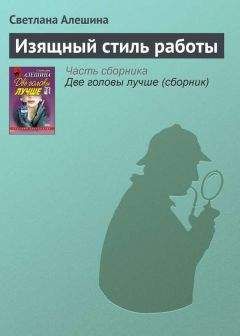Лидия Гуардо - Исповедь. Пленница своего отца
Я была знакома с доктором М. Это был врач, который лечил нас, когда мы болели, и делал нам уколы. Отец всегда сам отводил меня и мою сестру в его кабинет и присутствовал при осмотре. Затем он заполнял медицинскую книжку, записывая в нее все, что сказал врач. Впоследствии Старик всегда делал это и применительно к моим детям: он завел на каждого из них медицинскую книжку и делал там записи своим каллиграфическим почерком — как он говорил, «почерком настоящего печатника».
Целый день он нетерпеливо ждал того момента, когда профессор начнет вечерний обход больных, перечитывая при этом свои бумаги. Старик не мог усидеть на месте, а потому то и дело выходил в коридор, возвращался в палату, рылся в моем шкафчике, в котором не было ничего, кроме свитера и футболок. В конце концов он сгреб их в кучу и запихнул в полиэтиленовый пакет.
Я наблюдала за ним, под простынями сжимая в руках свою куклу.
Каждый раз, когда в палату заглядывала медсестра, Старик спрашивал у нее, в какое время придет профессор. Обычно ему ничего не отвечали.
Наконец вечером, когда Старик сидел в кресле, в палату зашел профессор со своей обычной «свитой».
— Вы хотели меня видеть, мсье Гуардо? Что-то случилось?
— Я хочу, чтобы моя дочь вернулась домой.
— Мы об этом уже говорили, и вы знаете, что я против. Ребенок пребывает в таком состоянии, которое требует специального ухода.
— За ней будет ухаживать в Мо доктор М. Он будет приходить к нам домой, а повязки станет накладывать медсестра. Вот, в этом письме все написано.
Старик протянул профессору бумаги, которые держал в руках, и, пока тот их читал, начал тараторить:
— Это моя дочь, и я имею право ею распоряжаться! Она и так слишком долго находится вдалеке от родного дома. Я больше не могу приезжать сюда каждую неделю, у меня есть работа.
— Послушайте, мсье Гуардо, необходимо, чтобы раны полностью зажили, надо дождаться восстановления…
— Этого можно дождаться и в Мо, и даже быстрее, чем здесь! Я напишу вам расписку в том, что добровольно забираю отсюда свою дочь, и затем увезу ее.
Профессор посмотрел на него пристальным взглядом и немного спустя, тихонько посовещавшись с другими врачами, сказал:
— Я не могу вам воспрепятствовать, однако ребенок всю оставшуюся жизнь будет страдать от последствий вашего решения.
— Ну и пусть!
— Ну а сейчас попрошу вас выйти. Мне нужно посмотреть, в каком состоянии находятся ее ожоги. Выйдите из палаты, я сообщу вам о своих выводах завтра.
— Я вас предупреждаю, что в любом случае увезу ее отсюда!
И он меня увез.
Несколькими днями позже я вернулась в департамент Сена и Марна.
Я снова оказалась в квартале социального жилья, в здании под названием «Шампань», в нашей квартире. Поскольку я не могла ходить, отец донес меня от автомобиля до квартиры на руках. На лестнице навстречу ему попадались соседи, и он им громко кричал:
— Видите, что управление социального жилья сделало с моей дочкой? Я подал на них жалобу!
Соседи смотрели на мои перебинтованные ноги и живот, и мне было стыдно. Я уткнулась носом в плечо отца, чтобы скрыть лицо. Мне казалось, что соседи видят мои ожоги сквозь бинты.
Кожа на ногах набухла. Она была ярко-розовой, с белыми фрагментами. Со стороны казалось, что она состоит из разных кусков. И так оно, в общем-то, и было! Живот пострадал от ожогов меньше и уже начал заживать — благодаря всем тем мазям, которые к нему прикладывали.
Старушка ждала меня в квартире вместе с Надей и Брюно.
— Ты вернулась? — вот и все, что она сказала, увидев меня.
Когда она подошла ко мне, я повернула голову в другую сторону. Брюно мне улыбнулся, хотя вообще-то никогда не улыбался. Надя же прошептала:
— Если бы ты видела, какую трепку Старик устроил Старушке, ты бы обрадовалась.
Затем, взяв меня за руку, добавила:
— Вообще-то она намеревалась посадить в кипяток меня. Тебе просто не повезло…
Старик положил меня на кровать. И только тут я заметила, что со мной больше нет моей куклы.
Я заплакала.
Поначалу доктор М. приходил к нам каждый день: он осматривал мои раны, проверяя, не проникла ли в них инфекция. Еще к нам заглядывала медсестра, меняла повязки, и мне при этом было очень больно — намного больнее, чем там, в больнице. Я вопила каждый раз, когда она снимала старые бинты, и Старик, обычно присутствовавший при этом, сердито шикал на меня, потому что соседи жаловались на то, что я так громко кричу. Ему пришлось показать им медицинскую справку, в которой было написано, какие я получила ожоги, а иначе они, наверное, вызвали бы полицию.
Старушка не заходила в нашу с Надей комнату: Старик запретил ей это делать.
Он сам умывал, причесывал, раздевал и одевал меня и при этом везде ко мне прикасался.
Как-то раз он пришел с фотоаппаратом и заставил меня позировать ему голой. Он говорил, что это нужно для получения страховых выплат и для судебной тяжбы против управления социального жилья. Он снимал крупным планом мои бедра и нижнюю часть живота. Мне было так стыдно, что я закрывала лицо ладошками, а он смеялся и говорил:
— Ну давай же, разведи ноги в стороны, чтобы было видно все ожоги… Посмотришь, сколько заплатит управление социального жилья, когда его начальник все это увидит!
Он смеялся так громко и заразительно, что я тоже начала смеяться. Я видела, что он очень доволен, и у меня самой на душе посветлело. Я даже спросила, а нельзя ли мне получить в подарок новую куклу.
— Когда нам заплатят кучу денег, я куплю тебе куклу. Но ты должна быть очень ласковой со мной, своим папой. Ты — моя маленькая куколка!
Он погладил мое лицо и легонько ущипнул сосочек на моей груди.
Затем он вышел в коридор и, позвав Надю, заперся с ней в своей комнате.
Получалось, что с момента моего отъезда ничего не изменилось.
Ничего не изменилось, если не считать того, что Старушка стала вести себя в присутствии Старика очень тихо. Она уже почти не разговаривала с Надей. Брюно делал все возможное для того, чтобы быть незаметным, и, можно сказать, стал тише воды ниже травы. Он теперь со мной не общался, и я лишь время от времени замечала, как брат проходил мимо нашей с Надей комнаты — так быстро, что едва успевал на ходу бросить на меня взгляд.
И все же я была довольна, что вернулась домой. Почему-то я чувствовала себя здесь лучше, хотя у нас дома и не было телевизора. Если бы у меня были телевизор и моя кукла, то я вообще чувствовала бы себя счастливой.
Но затем я неожиданно оказалась в аду.
5
Рассказывать об этом периоде моей жизни труднее всего, причем не столько для меня самой, сколько для моего писателя.