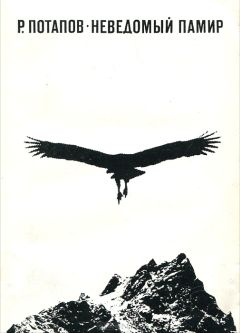Юрий Самарин - Тринадцатый ученик
— Слышь, мужик, тебе чё, плохо? Ты, может, помираешь? Сань, ты оставь каплю, здесь братан помирает.
Паша покачал головой:
— Мне нормально.
Солнце, клонясь к вечеру, задевало нижним краем верхушки сосен старого кладбища, и старое кладбище, точно дом, где стены — стволы деревьев, выкрасилось в оранжевое. Через могильные насыпи и плиты легли тени. Где-то далеко свистнул локомотив, хлестнуло по ушам — пролетел поезд. Пора было выбираться отсюда, хотя, как видно, не только бренным останкам служило это «место злачне», но и останкам социальным, никчемным отбросам цивилизации. Паша смотрел, как двое давешних приятелей комфортно располагались у кладбищенской сторожки. Должно быть, сторож человек добрый и не гонит их.
— Что там за оградой? — Паша неопределенно махнул в сторону леса.
— Дебри, — равнодушно сообщил тощий, в очочках, — зря не ходи, заблудишься. А чё обратно-то не идешь?..
— Обратно нет…
Мир, откуда сюда сообща все они принесли покойника, стал не то что ненавистен, а неприемлем Паше. Он чувствовал, что жить там не умеет и, главное, не хочет. Сама дорога в город была бы возвращением, а он еще не обрел то, что искал. Настя ждала его впереди, в будущем, и это будет его единственное оправдание. Он решительно встал с земли и вскоре благополучно перебрался через витую металлическую ограду.
— Выпьем и снова нальем, — донеслось последнее напутствие беззаботных бражников.
В лесу, где тотчас очутился Паша, было так хорошо, что он сразу забыл о смерти. Он пошел, удаляясь от кладбищенской ограды, и тут-то почувствовал, что время вновь заключает его в свои тугие объятия. Но только перестало оно быть глобальным, все как-то сузилось, сжалось, стянулось, и то и дело в совокупности наплывающих обрывков запахов, ощущений Паше чудится, что он — ребенок, мальчик. И впрямь — разве умеет взрослый Паша так удивляться лесу, что восторг свободы, одиночества среди этих корабельных сосен перешибает страх подступающих сумерек. Горьковатый, густой воздух пьянит. Попался на пути овраг, правый, пологий склон весь усеян сосенками в три вершка. «Надо же — детский сад!» А за оврагом еще овраг и еще, будто прочерчены кольца. Паша устал и запыхался, к тому же по дну оврага тянулось болотце. Он отыскал открытое окошко проточной воды, умылся, хлебнул с ладони — горьковатая, с привкусом хвои. Идти дальше по темноте поопасался: мест не знает, не ровен час — угодишь в трясину. Поднялся по отлогому склону повыше, отыскал впадину, поросшую травой и земляникой, бросил на землю ветровку и походный рюкзачок и привольно лег, уставившись в ясное, синее, усыпанное звездами небо, ощущая, как дышит земля, отдавая дневное тепло, как внизу говорит вода, как среди подступивших стволов идет своя, неведомая жизнь: резко, неприятно вскрикивают ночные птицы-охотницы, все шуршит, шевелится, потрескивают сучки — будто, окружая странника, сам лес удивляется и настороженно вздыхает: «Что тебе нужно, человек?»
— Я больше не вернусь к людям, — отвечает Паша, — я не могу научиться жить среди них.
Он сам изумляется тому, что ему так спокойно, надежно лежать на земле под бескрайними этими густо-синими звездными небесами. Он повернулся на бок, подтянул колени к животу и почти сразу уснул, окруженный неизвестной жизнью.
Проснулся Паша рано, продрогший и счастливый. Первые лучи выныривали из-за леса, и траву, и листья земляники богато покрыла роса. Одежда отсырела, зато взамен были — бодрость и прохлада. В рюкзачке отыскались дорожные сухари, и, смочив рот водицей из ручья, Паша благополучно перебрался на другой бок гигантского оврага, влез по склону и очутился на опушке смешанного леса. Ранним утром под древесными сводами тоже царила свежесть, только воздух был гуще, плотней, да и вообще пространство сплошь заполняли ветви, стволы, листья, снизу — бурелом и валежник, а свободные воздушные пролеты перечеркивала кружевная липкая паутина. Все усилия следовало прикладывать к тому, чтобы продираться сквозь естественные барьеры. Внезапно объявилась в чащобе лесная дорога. Это была заброшенная просека, заросшая, кое-где перегороженная сухими стволами. В неровных колеях таились никогда не высыхавшие болотца. И все же идти тут было почти в удовольствие. Паша шел, брел, пребывая мыслями здесь и не здесь и отгоняя от себя подлую мыслишку, бубенчиком звякавшую в глубине: «А куда это, собственно говоря, я иду? И зачем? И надолго ли? И отыщу ли обратный путь?» Но все же спокойствие и отрешенность перебарывали, и рефреном, в такт шагам, выплыли известные слова: «Мир ловил меня и не поймал».
Судя по наручным часам, день перевалил на вторую половину. Отдыхая, привалившись спиной к старой осине, он наблюдал за громадным муравейником неподалеку, вся куча которого хаотично и в то же время целеустремленно двигалась в разных направлениях. Ему захотелось проделать детский фокус, и он сунул очищенную веточку в гущу муравьиной жизни, вынул, стряхнул муравьишек и слизал кислый сок. Правда, несколько обезумевших муравьев полезли под рукава рубахи и зло искусали его, так что он предпочел убраться подальше.
В лесу стояла тишь, лишь кое-где обрывались сухие сучья. Пару раз Паша натыкался на выводки сыроежек — ярко-красных, если в прогалы между деревьями их достигало солнце, бледно-фиолетовых, зеленых и даже вовсе белесых, если грибы росли в густой тени. Некоторые грибки торчали прямо на дорожке — давным-давно нехоженой. Но Паша не соблазнялся, только застывал иногда, любуясь особенно цветастым, дружным выводком. Все физиологические потребности не то что умерли, а пригасли, притухли в нем. Не хотелось ни есть, ни пить, а только вот так — идти, идти, идти в горьковато-сладостном тумане, чтоб выйти прочь из суеты, из быта, из хитросплетений жизни и оказаться наконец — ведомым Промыслом, дабы не отвечать за свое сумасбродство, а с твердостью возглашать: «ты привел меня сюда, Господи».
День угасал. Иссякали силы. Не одну лесную тропу сменил Паша, не раз отдыхал под кустами и деревьями, не единожды продирался сквозь чащобу. Одно было ясно ему теперь: сюда, в дебри, уже не достигнут никакие жизненные притязания, и вот сидит он, усталый, но чистый, беззащитный перед зверем, или разбойником, или, скажем, перед грозной стихией, вроде бури и молнии, тепличный покров цивилизации снят. Вот тут-то и отдаешь себя в руки Провидения искренне и целиком, вот тут-то всерьез молишь: «Спаси и сохрани!»
Невольный вздох вырвался из груди. Как там Виктория Федоровна и Жанна, как Бармалей, тетя Нюра и Настя?.. Ему захотелось понять — насколько далеко он от родного Любавина, и он попытался вообразить лес сверху, с самолета: кроны и вершины, овраги и реки, где-то в таинственной ложбине прячется средневековый замок, где гостили они с Бармалеем, а за лесами спасается монастырская братия и сияет крестом восстановленная церковь, где трудился Паша в прошлом году. Какой у них прекрасный и странный — погубленный край, весь пронизанный, схваченный метастазами крупнейших в России зон! Он вспомнил о том, что совсем неподалеку, на границе с соседней областью, возведен атомный центр, закрытый город, где под лабораторным колпаком содержится джинн распада, и только выпусти его — по недосмотру или намеренью, — пойдет разлагать цепная реакция и дома, и леса, и людей, и самый воздух до первокирпичиков, и дальше — до окончательной и бесповоротной дыры во вселенной. Словно в насмешку, места эти славились духовными подвигами святого, имя которого навеки связано было с именем последнего русского самодержца. И тут Пашу озарило: не в насмешку, нет. Духовный очаг запечатывал здесь атомную погибель, подвиг покрывал бездну. И множество этих подвигов — и там и тут — еще держат на весу русскую землю. Ему стало тревожно оттого, что он ощутил эти весы, это колебание, это удерживание в себе, и так же сильно стало ему радостно, умиленно, даже увлажнились глаза. Неужели вернулись слезы? Возвращен слезный дар, и оттаивает окаменевшее сердце. Он вообразил мощную бетонную стену, всю белую, до небес — хоть никогда не бывал у атомных станций, туда и не подберешься, все охраняется, — а у самой стены притулилась не замеченная никем ветхая, полуразвалившаяся избушечка, скособочившаяся пустынька. Когда проникнешь через дверь-лаз и глаза привыкнут к вечным сумеркам, разглядишь прямо на земляном полу — гробик, такой маленький, вроде детского, а внутри — череп и косточки медово-коричневого оттенка (Паша читал об Афонском монастыре, что именно такой цвет косточек почитался добрым) и еще иконка, сквозь древнюю смуглоту которой проглядывает знакомый до боли абрис покрова да еще скорбные очи Богоматери и кисть руки. Над гробиком — сияние стоит непрерывных молений. Так явственно все это Паша представил себе, что даже содрогнулся.
— Как же страшно! — зашептал он, будто приблизилось к нему нечто грозное, пусть и невидимое, и опаляет своим дыханием. Как захотелось ему в тот же миг очутиться на вечерней улочке родной деревни, чтоб сквозь палисадники светили теплые, уютные огни и повсюду, повсюду копошились бы в повседневных заботах люди.