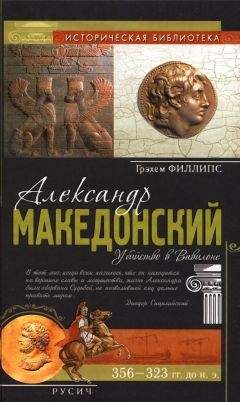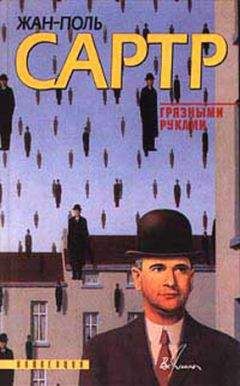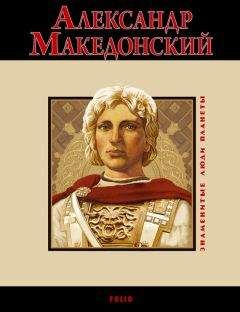Александр Яковлев - Голоса над рекой
— Сейчас у вас будет сильное сердцебиение, — внезапно и строго сказала анестезиолог, — пожалуйста, не вздумайте дергаться, держите себя в руках! Я ввожу атропин, один кубик.
Она ввела мне внутривенно чистый атропин — без димедрола и промедола, которые как раз и надлежало бы ввести в палате, но и тут, конечно, в операционной было можно.
О, до того как проснуться через 5 часов после операции, и уже инвалидом, мне было дано ощутить царское сердцебиение!..* Ах, Москва!
Через двое суток гипс был совсем сухой и — без единой — вмятины! (Муж тогда исправил рефлектор сам.)
Терентич одобрил.
А у нее начался отек гортани, и муж ночью снова бегал по клинике, теперь — в поисках врача ухо-горло-нос…
Начались галлюцинации, так как ей, хотя до операции и договорились, что промедола не будет, его вводили (не могли, конечно, не вводить, просто она тяжело переносила наркотики). Она же считала, что делают антибиотики, и лишь на 3-и сутки, пробившись как-то сквозь дебри промедоловых видений и поняв, в чем дело, просто не подпустила к себе сестру с промедолом. Сестра была ужасно оскорблена: «Другие просют!» (Но… на третьи сутки уже можно было жить без наркотиков, хотя, конечно, это не легко, но ей легче было переносить оставшуюся боль, чем промедол…)
Муж не успевал сушить ее подушечки — их было три, на смену, думочки, хотя сушил их на огненных батареях: тут же, как только она ложилась на думочку, та пропитывалась даже не потом — гольной водой…
Если ей удавалось на минутку задремать, она сразу же синела начиналась асфиксия, так как она повисала на своем подбородочно-гипсовом краю, «соскальзывая» на него во время дремоты из небольшого люфта над макушкой.
Почему это так получалось, никто не понимал: ни муж, ни хирург, ни профессор, ни Терентич. Это была какая-то загадка: скафандр был надет идеально. Попробовали все же чуть подпилить гипс под подбородком — ничего не изменилось…
Муж придумал поставить ей в постель чемодан, чтобы она, лежа, упиралась в него ногой и, таким образом, не «выскакивала» из люфта, но дремота или просто обычное расслабление — ослабляли или прекращали и нажим на чемодан, и она снова «летела» в гипсовую «петлю»…
Он перетащил ее на функциональную кровать (она стояла в палате) и, вращая несколько часов подряд специальной ручкой, пытался соотнести плоскости кровати таким образом, чтобы асфиксии не наступало. Напрасно…
И тут, тут, в это именно время, у него возникла острейшая боль в правой стопе, в пятке, из-за чего он абсолютно не мог на нее наступать.
Сделали рентген. Оказалась здоровенная пяточная шпора. Конечно, сто лет ей было, но вот ведь! — ни до, ни после этих дней она никогда не беспокоила его.
Ноге нужен был покой, физиолечение, но… «а мэнч аф а мэнчн дарф гофн»… «Аз дир вэт зих вэлн вэйнэн, зол мир зих нит вэлн лахн!»* И он весь месяц ухаживал за ней на одной ноге, здоровой — прыгал на ней.
И — выходил. И увез домой.
«Нянюшка моя». Это у Астафьева, в «Сне о белых горах». Это Эля об Акимке говорила…
4. САПОЖКИ
В первые же свои зимние институтские каникулы она поехала к отцу в лагерь.
Его станция — Княж-Погост. (У нее было еще два названия: Сыр-Яга и Вой-Вож — на коми.)
В вагоне было холодно, но в тамбуре она просто задохнулась: было минус 50, а на ней шинель и кирзовые сапоги, армейские — ничего другого у нее тогда не было.
Какой он? Узнают ли они друг друга спустя 9 лет, таких лет?
Она помнила его смоляную курчавую голову, склоненную над письменным столом и такие невероятные брови — такие они были широкие и густые, и тоже — смоляные.
И вот…
Она увидела его и, конечно, узнала, и он увидел ее и узнал, и было так немыслимо, так жутко, и такое было счастье, что какая-то лошадь с широченной телегой вдруг вышла откуда-то и встала между ними, разгородив их, не успевших еще подойти друг к другу, и каждый мог хоть как-то прийти в себя из-за этой лошади, перевести дыхание, а уже потом, когда она прошла, было все же легче.
Брови были такие же, серая тряпичная ушанка спускалась к ним, словно поддерживалась ими. Кое-где, правда, немного, в них посверкивали серебристые искорки. А рот… У отца не было ни одного зуба, хотя ему было 46 лет, и рот был как бы провалившимся…
Мы шли к его бараку («А я иду, со мной беда»…)
Мы шли так, словно шли так каждый день, словно ничего не было, не произошло. Я хотела реветь, кричать, выть, как воют над своей бедой бабы, я хотела броситься к отцу, целовать его, целовать, целовать (СО-МНОЙ-БЕ-ДА!), залить слезами, залить всего, растопить в своей любви. Наверное, и он чувствовал что-то вроде того, но мы шли, словно ничего не было, иначе мы оба так бы размякли, ослабли так, что совсем бы пропали, и ничем уже не смогли бы друг другу помочь… НУ, НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ БЫЛО!
Единственное, что было можно — держать отца под руку и слегка прижиматься к нему, слушая, как его взволнованный, охрипший от этого волнения голос, ударяясь о его ребра, ударяется потом в мои… («…со мной беда!..») Но я… я не просто слегка прижималась к отцу, а прижималась сильно, вжималась в него, впитывалась, но делала это не физическим, а особым внутренним движением… Я проникала в него, вбирала его боль (…беда, беда!..), его беду (беда!), я была уверена, что ему теперь легче, что он должен как-то ощутить мою боль и мою любовь, как-то почувствовать их.
(«А я иду, со мной беда, не прямо и не косо, а в никуда и в никогда, как поезда с откоса…»)
Бараков тут стояло несколько, длинных бревенчатых зданий. Одно прямо кричало яркими разноцветными занавесками. Что это? Клуб, что ли? Но я не стала ни о чем спрашивать.
В центре между бараками, по кругу, были вбиты красные остроконечные колышки.
«Пардон, площадь пенисов», — сказал потом лагерный сапожник, перетягивавший мне сапоги, вспоминая в разговоре это, как он выразился, «достопримечательное место» (летом — клумба).
Дневальный у барака улыбнулся нам.
Мы вошли.
Комната. Длинная и узкая. С нарами с двух сторон. Печка, стол. За перегородкой умывальник, таз на табуретке. Тусклые лампочки. На нарах слежавшиеся матрацы, торчащие из-под одеял — коротких и тонких. В головах небольшие хилые подушки, приседавшие на один бок, если хозяева решали их поставить.
В дальнем конце нар, с той стороны, где было место и у отца, кто-то спал, укрывшись с головой. И кроме этого спящего и нас — никого: все работали.
Папа посадил меня за стол, а сам, находясь как бы не в себе, взял стоявшую в углу возле умывальника растопыренную дворницкую метлу на длинной палке и стал мести пол.
Потом он поставил метлу и сел. Он угостил меня главным лагерным лакомством («божественно вкусно!» — сказал он) — ПРЕМБЛЮДОМ, то есть премиальным, выдававшимся за перевыполнение плана. Это был кусок застывшей ячневой каши.
Абсолютно не сладкой, но — по сравнению с ежедневной баландой на рыбьих костях и тощей рыбешкой с ложкой какой-нибудь трухи — лакомство.
Мы сидели и пили чай, когда с работы стали возвращаться ребята.
Все они были очень похожи на папу — в таких же телогрейках и ушанках, с провалившимися ртами…
Время от времени кто-то из них как бы случайно оказывался возле папы и тихонько касался его плеча или спины — подбадривал.
Среди «ребят» был и дедушка Субоч, белорус, которого она увезла потом с собой, так как у него выходил срок.
Дедушка был очень худой и не просто седой, а просто абсолютно белый, с длинной белой бородой. Он страшно боялся всего, боялся ехать один, и узнав, что дочь товарища согласилась взять его в Москву, да еще и посадить там в поезд на Белорусском, тут же перевязал свой фанерный чемоданчик веревкой, поставил его под нары и стал тихо благоговейно ждать…
Свидание с отцом было каким-то чудным — они почему-то совсем мало были вместе и поэтому ни один их серьезный разговор не был доведен до конца.
За два дня до отъезда отец отвел ее к лагерному сапожнику, который великолепно перетянул широченные ее кирзачи, сделав не только по ноге, но и в обтяжку — модно! — и так надраил, что она потом всю дорогу переживала, что невольно пачкает их, и тихонько, чтобы никто не видел, вытирала носовым платком…
Ну сапожник!.. Чего только он не рассказал ей за две их встречи в своем закутке!..
Рассказал, как во время войны в лагере свирепствовала пеллагра («Вы ж понимаете, дефицит витамина «ПП»), какая смертность была от нее. «ЗЭ-КА (он произносил это слово именно так, на два слога) косило, прямо косило. Умер профессор Баренгольц — член ГОЭЛРО и вообще весьма уважаемый человек». Как пеллагрой болел папа, как умирал от нее, и как он, сапожник, тоже ужасно болел пеллагрой и тоже выжил — они лежали в лазарете рядом. И как папа тут же заболел «скорбутом» (цингой), и тут уже никто не думал, что он выживет, а он выжил. «Он же рассказывал вам, не так ли? Не-ет? Ай, простите! Так вы не говорите папе, прошу вас! Это будет наша маленькая тайна». Она кивнула.