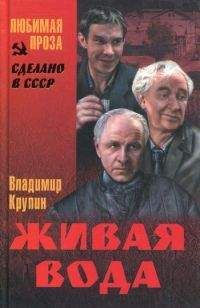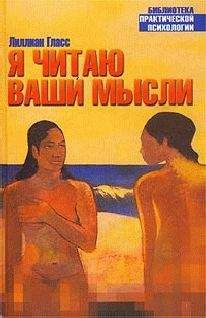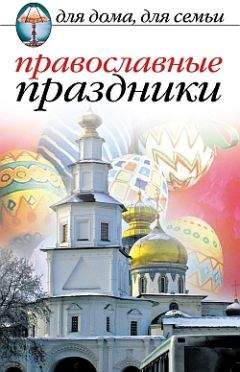Владимир Ионов - Успение
Он открыл дверь, переступил высокий порог и остановился у косяка. Любаша, постаревшая, раздавшаяся телом, увидев его, остановилась у стола, зажала ладошками рот, чтобы не закричать, и замерла так, пока не узнала в грязном, сдыхающем старике своего старого знакомого, Павла Опёнкова.
— Господи, Паша! — И села на табуретку, ослабнув. — Ох, напугалась как — сердце отнялось. Думала, Иван с ночной пораньше пришёл. — Вдруг вспомнила, что сидит в одной рубашке, полунагая, скользнула за занавеску накинуть на себя что-нибудь. — Откуда ты, Паша, взялся?
Он опустился на порог, стало вдруг жарко ему, и потекли перестоявшиеся в нём слёзы. Он стал унимать их деревянным рукавом брезентины и не мог унять.
— Господи, страшный ты опять какой! — И у неё засвербило глаза. — Откуда ты взялся? Господи, вот уж и не чаяла… Хвораешь? Больной весь. — Она стояла у стола, теряясь в словах, не знала, что делать. В суетливом уме вспомнилось, как такого же вот привела его тогда в дом, как ревела потом от бабьей тоски, и тут же думалось, что Иван может скоро придти и чего-то он скажет, увидев на пороге чужого страшного мужика. А Павел крутил головой, тёр глаза жёстким рукавом и ничего не говорил. — Паша, да скажи хоть ты чего-нибудь. Господи, что мне делать с тобой? Куда хоть ты собрался или идёшь откуда? Что же делать-то?
Он услышал в её голосе тревогу — не ту хлопотливую, громкую, с какой встречают желанных гостей, а тревогу тревожную, настоящую и начал понимать, почему она убежала от двери, едва откинув крючок, почему встретила его в одной рубашке, почему говорит про Ивана… Слёзы у него унялись от этого, сказал:
— Повидаться зашёл… Жива ли, думаю?
— Жива, слава богу, Паша, жива. Ты хоть на лавку пересядь, чего на пороге-то?
— Семьёй живёшь?
— Что же делать-то, Паша? Одной куда ни кинь — везде узко… С работы вот должен придти, в ночь он сегодня… А я вот уж который месяц… Второй у нас с ним появился… Поди, проснётся сейчас, напугался, поди…
— Ну, дай вам, Господи. — Он с порога поглядел на занавеску, на кухонный стол с пустой тарелкой, с хлебом, приготовленным не для него, на чистый половик, на всё тепло живого Любашиного дома. Ничего он этого не знает, ничего ему не ведомо… Повернулся к двери.
— А то посидел бы, Паша, — сказала она.
— Пойду я, — ответил Павел.
— Уж прости, я бы оставила… Ревнивый он у меня. — Она помогла ему толкнуть дверь, задела его плечом и обдала запахом грудного молока, прокисшего пятном на сорочке.
— Вот и свиделись, — сказал он на улице. — Ну и ладно, прощай теперь.
— А ты всё там живёшь? — Она суетилась, застывала на холодном воздухе, хотела, чтобы он не обиделся на неё и боялась: — молоко бы мне не застудить, Паша…
— Не студи.
Любаша повернулась, пошла. Совестно ей было уходить, оставлять его, разбитого, больного, и, видно, не уйти нельзя из-за молока и из-за мужа, от которого у неё уже двое. Он понял её, но и самому ему хотелось большего, нежели получилось сейчас, поэтому в оправдание ей, в надежду себе, сказал едва слышно:
— Как бы теперь у нас началось… А тогда ума-то не было…
Она услышала его слова, остановилась на крыльце, поглядела на него из темноты.
— Ждала я тебя тогда… А теперь что уж?… Теперь двое у нас с Иваном. Прости меня, бабу… — И скрылась в дверях.
От калитки он пошёл, как мог, быстро, чтобы, не дай Бог, и верно не увидел его кто возле её дома, не подумал чего про неё. В этой заботе он опять дошёл до площади, там его подсадил в кабину заблудившийся в чужом городе шофёр и увёз в другой город, на вокзал, где много лет назад у пивного ларька он увидел горького Валасия. С вокзала Павел хотел пуститься в странствие по белу свету, чтобы так же, как Валасий, отыскать какого-нибудь старого знакомого и помереть возле него. Но первый поезд, который ему попался, шёл в сторону его станции и останавливался там, и Павел решил сперва доехать до дому, обогреться, обсушиться, а там уж видно будет.
Автобуса к этому поезду не было, ждать его — и без того озноб колотил застывшее тело, поэтому решился идти пешком.
Дождь перестал, и был туман, густой, холодный.
Павел шёл обочиной, по тропке, которая спрямляла повороты дороги и бежала то краем поля, то задевала лес. Среди чёрной вымершей травы тропка белела слабой изморозью, как Любашина сорочка в тёмных сенях. Он старался идти быстрее, чтобы согреться тратой последних сил, и ноги громко и неровно стукали о назябшую землю. Каждый шаг отдавался болью в пояснице, в пустой груди, но он привык уже к этой боли. Часто глаза его закрывались сами собой, и тогда его заносило, роняло в сторону, и трава шпарила руки и лицо жидкой наледью. Добрести бы только до села, а там согреться у кого-нито, и оживёт, люди добрые не дадут сгинуть со свету. Только бы тут не сгинуть, не пропасть.
И тут пришли к нему новые мысли, которых он не ведал до этой ночи. Только бы до села… А там, чай, не поганый, надеется какая… Любаша вот уж второго родила от Ивана, а Иван-то, поди, одногодок с ним. Господи, может и у него своя душа заведётся. Пропади оно пропадом так-то жить. Раз никто Бога не боится, он-то, что же бояться будет? Дурь ведь это — сгинуть со свету, будто тебя и не было, это хуже, чем самому задавиться. А тут своя кровь продолжится во времени. Бог-то был ли, не был ли, а кровь была, есть и будет. Опёнковы-то, поди, изначально жили и хотели продолжаться до века, а он пресёк их продолжение монашеством, погубил живую память о них, выжег её крапивой, вытравил. Неужели это надо было Богу? Где Ты, сказавший: «Я, Господь, проникаю в сердце»? Где? В чьём Ты сердце остался? Явись, укажи путь праведный к Имени Твоему… Или мало выстрадано ради веры в Тебя? Нет Тебя?.. А кровь Опёнковых, изначальная, от дедов и прадедов, она продолжится, и не будет ей анафемы от памяти, от жизни.
Павел стучал ногами по тропке, падая, мял руками траву в обочинах, поднимался и дальше стучал ногами. Живого в нём осталось мало, наверно, какие-то клетки, которые замирали от прежней жизни его, а теперь он снял с их анафему, и они обрели себя, свою силу и будили остальное тело, не давали ему задохнуться в прелом запахе отжившей травы, поднимали и двигали дальше.
Не доходя до перекрёстка двух дорог — это уже четыре версты отшагал он от станции — услышал за туманом чьи-то голоса: народ пришёл ждать встречного автобуса. Павел повернул в лес, чтобы пройти подальше от глаз людских, от насмешек, которые будут, конечно, ибо не всякому придёт в голову пожалеть его в таком страшном виде. Потом он покажется людям, потом, когда поправится.
У канавы, прорытой трактором по узкой просеке, он оступился, полетел вниз и услышал, как хрустнула спина, как пошла горячая трещина по телу — ветхому сосуду дедовых кровей. Напугался до стона, послушал округу, чтобы узнать: жив ли ещё? Увидел за жидким туманом верхушки берёз, вспомнил, что под ветром берёзы не качаются, а кружатся верхушками, и понял, что ещё не помер. Повернулся на бок. Что-то в нём перелилось с болью. Потом на живот перевалился и, цепляясь пальцами за комья, стал елозить коленками. Только бы выбраться, только бы добраться до села.
Вылез в траву, хрипя от боли, поднялся на колени, огляделся и понял, что выполз не на ту сторону канавы — не ближе к дороге, а ближе к лесу, и канаву эту ему не обойти, потому что тянется она, должно быть, до речки, до самого обрыва берега. И не переползти ему её обратно, потому что тело уже остывает, гнётся и двигается со скрежетом, с болью.
Вот и вся его жизнь. Где зачалась она, он не ведает, а кончится у сточной канавы, в лесу И он закричал людям, от которых только что прятался, закричал хрипло и протяжно. Прислушался, идёт ли голос его, но услышал только шум машины, поднимающейся снизу, от моста. Много раз он ходил и ездил по этой дороге и теперь вспоминал мелочи её. Сейчас автобус осилит подъём, остановится на перекрёстке, заберёт людей до станции, а с машины вряд ли кто сойдёт в такую рань и долго ещё здесь не будет живой души. Выждал, когда автобус остановится, перестанет гудеть, крикнул, надрывая страхом горло. Привалился боком к свежему пню — вечером кто-то тут пилил, еще опилки не пожелтели — и пропал в беспамятстве. Скоро очнулся от страха, что кровь его умрёт в нём, услышал опять машину, теперь уже уходившую от перекрёстка.
Вот и вся его жизнь. «Псу живому надежды больше, чем мёртвому льву…» А он псом бездомным сдохнет… «Господи, тесно мне, спаси меня… Не преисподняя славит Тебя, не смерть восхваляет Тебя, не нисшедшие в могилу уповают на Истину Твою!..»
Тишина в тумане. Стоячая тишина. Как в храме зимней ночью. Живым остаткам Павла стало тесно в этой тишине, он поднялся на четвереньки, дополз до края канавы, поглядел в неё и попятился — не перебраться через неё на дорогу. Осталось ползти через ельник к совхозной дороге. Она рядом, и канавы перед ней нет. А старую посадку ельника он ещё переползёт. Густо там, темно, в рост не пройдёшь, а проползти можно под отсыхающими ветками. Прошлым годом, после Успения Пресвятыя Богородицы он там лазал за белыми грибами, — парни из озорства послали, дескать, тама боровиков полно, — надрал ветками лицо, вылез с пустом — в такой густоте разве что прорастёт? Как бы солнышко вышло, согреться бы, спину бы погреть, горло бы… Он бы и через эту проклятую канаву, и через ельник… А тут туман поедом ест.