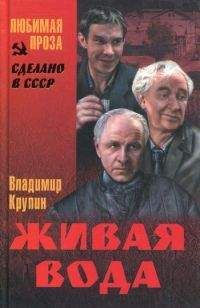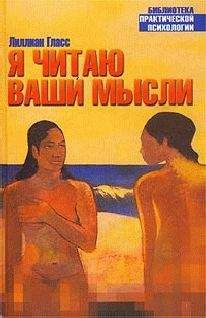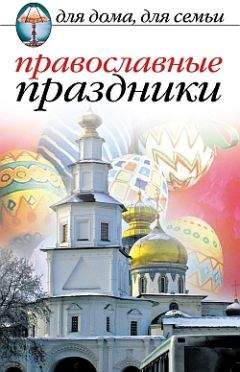Владимир Ионов - Успение
Допил густую, переслащённую медовуху, отпихнул черепеньку, и боль от рождающегося из него вопроса грузно свалила его с лавки на колени, отворила существо его для выхода голоса.
— Испытай мя, Боже, узнай сердце моё, испытай помышления мои и зри, не на опасном ли пути раб Твой, и направь мя на путь вечный… Жизнь свою грешную Тебе отдал… Явись, утверди мя в вере моей… Хоть громом явись и срази до смерти, хоть пламенем — и испепели… Жизни ради Тебя лишусь по единому Слову Твоему… В цепи себя закую, по колючим терниям землю обойду, славя Имя Твое… Грешный я, Сыне, но долготерпивец ТЫ, длань Твоя всепрощающа, простри Её на мою голову, яви силу Свою! — Он задохнулся в горячности молитвы, поклонился до полу и долго студил горячий лоб об холодные половицы, напрягая слух и тело в ожидании Господнего знамения.
Но тишина была в доме, слышно только, как лампадка потрескивает, выгорая перед образом, да бухает сердце, проворачивая в теле усталую кровь. Тихо в доме. Тихо! Нету, значит, чёрному монаху Господнего благословения. А как же владыко, при пострижении читал над Павловой головой, закрытой мантией: «Забудет ли женщина грудное дитя своё, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но, если бы и она забыла, то Господь не забудет тебя…» И что же, нету иноку Господней памяти?
Павел медленно выпрямил спину, поднялся с колен, потянулся на носках, чтобы ближе видеть лик Господень. Но было ещё далеко, и он взобрался на лавку, посветил огоньком лампады перед самым образом. Близко так он никогда не видел Его, даже когда целовал иконы, потому что смирялся его взгляд, глаза смежались в упоении, и в те моменты была перед ним лишь короткая тьма. Теперь же образ был с ним с глазу на глаз, и Павел видел, как потрескался лик и шелушится краска на впалых темных щеках, как плоски и мертвы глаза Его, полуприкрытые тонкими веками, и что в трещине между доской и окладом занялось и уже почернело старое тенято.
— Откуда же тут памяти иноку ждать? — сказал Павел и отвернулся, тайно желая последнего удара, кары Божьей в затылок. Хотел он этой кары и стоял, содрогаясь телом, затылком к пустому образу. И не дождался исполнения желания своего.
Будь он трезв сейчас, может бы, не нашёл иного утешения, кроме горьких слёз и наложения на себя величайшей из схим, но он был пьян и пил из ковша бывшего дьякона, усопшего в полном безбожии, а по сему хотел или утвердиться в безверии, или предать анафеме чашу сию. Желание это вывело его на улицу, завернуло тропкой к кладбищу, опрокинуло на колени возле могилы, для которой когда-то вырезал он из двух жестянок звезду.
— Ва-ла-сий! — застучал он кулаками в покатый холм. — Валасий! Спросить тебя надо… Был ли Господень суд тебе? А, Валасий? Ангелов видел ли? Што там теперь?
Над кладбищем, в вышине берёз, стоял густой гомон собравшихся к отлёту грачей. Несметная стая птиц тесно — еле крылу взмахнуть — вытягивалась чёрной орущей дорогой, загибалась высоко, но переламывалась и падала со скрипучим шелестом тысячных криков до верхушек берёз, там заворачивала в сторону и опять забирала ввысь. За птичьим криком не слышно было крика обеспамятевшего Павла, но он продолжал стучать по могильному холму, разрывать крепкий дёрн пальцами, словно силился спрятаться, закопаться от громкого гомона чёрных птиц. Он почти разметал им же насыпанный холм могилы Валасия, опрокинул фанерную тумбу со звёздочкой и, уморившись от дикости своей, уснул тут же, на разоренной могиле.
Спал долго и тяжко в наступившем беспамятстве. Собрался дождик, короткий, но холодный и частый. Он отогнал грачей на другой берег реки, остудил Павла. Павел проснулся, оглядел могилу, вспомнил всё, не поднимаясь с колен, руками собрал размокшую землю, поставил тумбу с погнутой звездой и потащился в избу, пустой и грязный, как после судного дня.
Неделю он не выбирался из дома и почти ничего не ел, потому что сам не имел для этого силы, а Катяша не подходила к нему, всё торчала в своём углу, что-то пришёптывала над грешной иконой своей. Она и ночами шепталась со своим святым, когда Павел вдруг выходил из беспамятства и ясно, до звона в голове, слышал домашние голоса и шорохи. Потом шёпота её не стало слышно, был только запах палёного фитиля в лампаде и тихое потрескивание его, и глухие голоса с улицы. Однажды эти голоса были громкие, крикливые, был треск, шум дождя, вёдра стучали. В дом к нему вбегала старостиха и, шатаясь, металась от угла к углу и выкрикивала пуганым голосом: «Где она? Где она?» Его потрясла за ворот, подёргала за бороду с тем же криком: «Где она? Куды спрятал блудницу свою?» Потом пропали все голоса и звуки, была боль, и жар, и холод возле переносья. У кровати сидел Адам с пасечного хутора и толковал, что Катяша пропала куда-то из села, а перед тем наделала беды: сожгла у Александры поленницу дров вместе со двором, а дом старостихи только чудом отбили от огня. Катяшу теперь ищет участковый Ванька Сараев и с ним мужик из санитаров дурдома. «Отрешилась, видать, от ума», — сказал Адам. Еще дед Адам сказал, что третьего дня был покойник, Павла растрясти не могли, и панихиду пришлось справлять ему, Адаму. «Отслужил, — сказал он и съёжился от смеха. — Позабыл всё, прости, Господи. Почадил кадилом — Александра дала — да псалмы, которые помню, козлом проблеял — и вся панихида… А ты на Воздвиженье-то встанешь ли? Александра говорит, чуть, мол, не сдох — до чего упился. К Валасию своему, говорит, закопаться ладил». Павел отвернулся от Адама, тот пробубнил ещё чего-то и ушёл.
Службу праздника Воздвиженья животворящего Креста Господня Павел отслужил, блюдя все каноны её, но медленно и тоскливо и за всю службу не открыл глаз, уставших смотреть на мир. А утром другого дня уехал в город. Настоятель Воскресенского собора отец Сергий позвал его на молебен в честь дня своего ангела и для разговора, который имел к нему отец благочинный.
Глава 10
Погода который уж день стояла мерзкая, а в понедельник и вовсе понесло снег с дождём — зима с летом, говорят, сдвинулись, — и дул ветер, тугой, холодный.
В дорогу Павел надел два подрясника и сверх них ещё брезентину, в которой приехал к нему Валасий, взял коробку для клобука, туда же сложил черепеньку, деньжата, что велись в доме, и, на случай, простился с домом. Он не знал теперь, что будет с ним дальше. Может, встретит Любашу, попросится к ней на постой и опять поступит, коли возьмут, в стройконтору, а, может, вернётся обратно в своё село доживать остальную, надоевшую теперь жизнь, а может, в дороге с ним чего случится…
В город Павел приехал поздно, когда в соборе Воскресения Христова уже кончался молебен. В храм не пошёл — что-то больно усталось за дорогу — остался посидеть на паперти. Тут же, в сумерках, торчали ещё двое — нищие: старуха-юродивая Матрёнка и толстый мужик, одноногий, с провалившимся переносьем и разбитыми губами. Мужик был крепко одет и оттого казался толстым, а старуха, наоборот, вся продувалась ветром. Из-под короткого платка торчала сивая чёлка не то подпалённых, не то ножом отхваченных волос. Она жевала беззубым ртом, и лицо у неё складывалось надвое. Её трясло холодом.
Одноногий, увидев Павла, стал матерно ругаться, а Матрёнка уставилась на него глазами, пустыми, как спёкшееся в печке стекло.
— Чего сквернишься-то у храма? — спросил Павел, когда надоело слушать мужика.
— Пшёл! — цыкнул в ответ одноногий. — У храма! У храма-то подают, а тут подали! — показал кукиш из толстых пальцев. — Может, сам подашь? Сам-то кто, из попов ай нищий?
— Из странников я, — сказалось у Павла. Да и в самом деле, кто он теперь? Вера в нём пошатнулась, отчего служба опостылела, а больше ни к чему не определился. Странник и есть. Остаётся, как Валасию, ложиться на ночь в пустой вагон и — куда судьба приведёт… Валасий Митю своего искал, а кого искать безродному монаху? Смерти? Одинокой, неприкаянной…
— Странник? — Одноногий оценил Павла узким взглядом. — Тощёй… Зараза напала какая?
— Душа вымерла.
— Вона!.. А сюды зачем пришлёндал, странник? Собирать будешь — гляди! Матрёнка, где палка-то?
Старуха перестала жевать, открыла на Павла печёные глаза и выволокла из-за спины посох, похожий на корягу.
— Видал? Первый сбор тебе Матрёнкиной палкой будет. Братская милостыня! — И хохотнул, раздирая разбитые губы.
Молебен закончился, стали выходить из собора. Мужик и Матрёнка живо подвинулись к дверям, встали на колени.
— А ты пшёл отсюда, вонючий! — успел сказать одноногий. — Или встань. А барыш мой будет!
Павел отошёл к дому отца Сергия. Господи, сколь многолика жизнь человеческая, сраму в ней сколько, сколько отвратности всякой и несчастья. Экая мерзость духовная под Богом выросла — у Христа бы не хватило к ней сострадания. И жив, гляди, корячится, и Бог ему не судия. Где же тут вере выстоять?
Священники вышли из собора боковой дверью. Одноногий учуял это, стукнул костылём, и Матрёнка сорвалась с паперти, волоча за собой корягу, на коленках заторопилась к отцам священникам. И не поспела за ними, и они ее не подождали. Зря коленки драла на камнях.