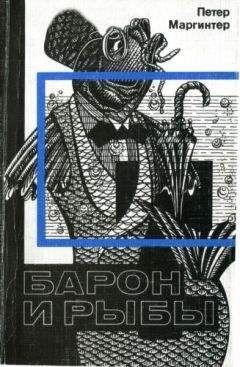Борис Хазанов - Аквариум
Так как всего вероятнее то, чего никто никогда не ждёт, — любопытный парадокс теории вероятности, — можно предполагать, что даже сравнительно близкие потомки найдут в катакомбах нашей эпохи нечто такое, о чём мы и слыхом не слыхали. Для этого века будет придумано непостижимое название. Венцом и вершиной истории он, конечно, не будет. Но кто знает, может быть, к нему отнесутся снисходительней. Чего доброго, он станет именоваться добрым старым временем, станут говорить: как тепло, как уютно тогда жилось! Наш век будет исчерпывающе объяснён с помощью какой-нибудь безумной теории. Его уложат, как в саркофаг, в какую-нибудь недоступную нашему разумению классификацию. Но и этого мало: не исключено, что он будет объявлен, в результате самоновейших исследований, никогда не существовавшим. Отнюдь не исключено!
Нас ожидает двойное небытиё. Мало того, что мы умерли, мы никогда и не жили.
Рассказывают, что один профессор философии, наш знаменитый современник, начинал свои лекции об Аристотеле фразой: «Он был рождён, трудился и умер». Вообразите же самочувствие Стагирита, которому объявили, что он никогда не рождался. Что он не жил, не учил, ничего не написал, все его трактаты, и Органон, и Этика, и Политика, и Метафизика сочинены не им, а какими-то безымянными черноризцами в монастырских кельях, в ненастные ночи Средневековья. Вообразите загробный гнев и отчаяние того, на чьём камне, поверх перечёркнутых дат, стоит: Numquam erat!
Этот пример может дать представление о масштабах переворота, совершённого Директором Института систематических исследований: историю пришлось укоротить, как штаны. Шесть столетий отправились в мусорную корзину, и вместе с ними ухнула в тартарары изрядная доля классической древности. Возвышение Рима, эллинизм, Афины и Александрия, Pax Romana и роскошный закат Империи — ничего этого не было, всё оказалось продуктом гениальной фантазии, античные классики — псевдонимами безвестных монахов, скромно именовавших себя копиистами. Переписчиками никогда не существовавших оригиналов. Собралась в складки вся новозаветная история, евангелия — о чём, впрочем, давно уже подозревали — были сочинены задним числом. Распятый окончательно превратился в легенду, и от первых веков христианства ничего не осталось. Само собой разумеется, что с потерей шести веков подлежало ревизии всё дальнейшее летосчисление.
Со временем открытие Директора, потрясшее научный мир, нашло продолжателей, примером творческого применения реформы может служить другая отважная попытка укоротить историю, предпринятая на сей раз не в нашей отсталой стране, а на просвещённом Западе. А именно, похерить промежуток от VII до Х столетия. Тухлое время, без которого, как выяснилось, можно вполне обойтись. Как стало известно, оно было попросту выдумано, грамоты и реликвии сфабрикованы задним числом, памятники архитектуры, какая-нибудь аахенская часовня и тому подобные, воздвигнуты позже. Чарующая скандалёзность этой выдумки сделала её неотразимой, если вспомнить, сколько людей, какие могущественные политические силы были заинтересованы в том, чтобы раздуть величие Каролингов и оправдать свои притязания на владычество в западном мире. Но каково несчастному Пипину, Карлу Мартеллу и самому Карлу Великому узнать о том, что они были мифическими персонажами и отныне уволены из истории! Поистине худшее, что может произойти с эпохой, это открытие, что её не существовало.
Но вернёмся к нашему времени, у которого, по крайней мере, есть одно преимущество: никто пока ещё не усомнился в его реальности. А до той поры, когда она будет объявлена мнимой, мы не доживём. Мифология — это кладбище истории. История — ожившая мифология. Если бы, однако, уже теперь мы попробовали подвести итог, обозреть свой век единым оком и вывести всеобъемлющую формулу, нам едва ли оказалась бы по зубам такая задача, и, конечно, не потому, что не хватает исторических материалов, хроник, грамот, архивных справок, надгробных надписей, фальсифицированных фотографий, поцарапанных киноплёнок и тому подобного. Ни одна эпоха не оставила после себя столько мусора, как наша.
Раньше было не так. Раньше можно было, благословясь, расчесав седую бороду, засветить лампаду, сесть за пульт и занести в книгу века ещё одно, последнее сказанье, можно было начертать не спеша заключительную главу — и захлопнуть книгу. Хватит ли у нас смелости сознаться, что мы утратили вкус и способность к синтезу, что навсегда потеряно доверие к великим историческим повествованиям, к «наррациям»? Можно ли утверждать, что законы истории, уроки истории, опыт прошлого и как там всё это называется — суть не более чем наррация, по-русски говоря, басня о том, что было и чего не было, а точнее, никогда не бывало? Оставим этот вопрос без ответа.
Дело в том, что число достижений, притязающих на роль «решающих факторов», так велико, что невозможно предпочесть одно, не воздав должное другому. Мне скажут: век автомобиля, а я отвечу — век противозачаточных пилюль. Кто-нибудь выкрикнет: расщепление атома, а я ему: тайная полиция, стукачи, концентрационный лагерь. Кто-нибудь шлёпнет об стол козырным тузом — рок-музыка! А мы его другим тузом: газовая печь! — Компьютер! Космические полёты! Генная инженерия! — Ответом будет гробовое молчание. Потом кто-нибудь осторожно вякнет: а терроризм? Кто-нибудь подведёт итог, дабы положить конец всем спорам: окончательная победа общества и государства над человеком. И мы опять ничего не ответим. Мы только подумаем: какой неслыханной виртуозности, какого совершенства достигло искусство маленького человека вести образ жизни улитки, скрываться в щелях, лавировать посреди утёсов бюрократии, ночевать в укромных углах цивилизации, прятаться, увиливать, вовремя ускользать, сматывать удочки, существовать не существуя и, живя, делать вид, что тебя нет.
Наше отступление затянулось, читатель волен его пропустить. Как сказал вагонный сказитель: кому неинтересно, пусть читает газету.
Национальная муза
А вот и он — в солдатской пилотке, в шинели без хлястика.
Идти в толпе, смотреть в спину женщинам. Мимо слепых опустевших вагонов влачиться в стуке и шорохе шагов, в неслышном шелесте, электромагнитном поле мыслей. Идти и смотреть на их плечи, удручённые грузом забот, на ноги женщин, на эту, на её чулки, овал её бёдер, пытаться ступать с ней в ногу, слишком мелкие шажки, мечтать и угадывать, кто она, обогнать, взглянуть искоса и разочароваться. Но где же сказитель? Лев Бабков потерял в толчее пассажиров вагонного барда. Толпа редеет. Увидел его далеко впереди; несколько времени шагают рядом.
Человек отверз уста: «Чего надо?»
В ногу, не глядя друг на друга.
«Который раз встречаю тебя в вагонах».
«И я тебя; чего надо?»
«Хотел познакомиться…»
«Мало ли чего ты хотел. Ты кто такой?».
«Трудно сказать», — ответил Бабков, и оба направились через площадь под эстакаду железной дороги, к зданию фабрики «Большевичка».
«Ты кто такой, отзынь», — сказал Георгий Победоносец.
Лев Бабков остановился.
«Слушай, — сказал он. — Чем травить желудок в этой поганой столовой, пошли лучше к тебе, харчи я куплю. Я, — сказал он, — твою балладу слушаю по три раза на неделе».
«Нравится?»
«Ты большой талант».
«Это мы без тебя знаем».
«Но извини меня, публика начинает скучать. Сколько можно? Там ведь народ — почти одни и те же люди. Пора обновить репертуар».
«А ты мне не указ. Репертуар… Да ты кто такой, чтобы мне советы давать?»
Подумав, он спросил:
«Ты что, мне завидуешь? Сам, что ли, хочешь выступать?»
Попутчики остановились в некоторой неуверенности перед продмагом. Сказитель осторожно заглянул в магазин и увидел, что Лев Бабков стоит в очереди перед кассой. Сказитель прогуливался по тротуару. Бабков вышел с бутылками и кульками.
«Ты, едрёна вошь, откуда знаешь, что я тут живу?»
«Что значит — едрёна вошь? — спросил Бабков. — Что это вообще за язык? Прощаю тебе твою грубость из уважения к твоему несравненному дару…»
«А всё ж таки: откуда узнал?»
«Я за тобою шёл как-то раз».
«Выслеживаешь?»
«Хотел познакомиться. Но как-то не решился».
Шли наверх по бесконечной лестнице, солдат открыл дверь тремя ключами. «Пелагея Ивановна! — крикнул он. — Мне никто не звонил?» Пелагея Ивановна выглянула из своей каморки. «Знакомьтесь», — буркнул сказитель. Лев Бабков галантно представился; оба вступили в комнату поэта с большим пыльным окном, неубранным ложем, с иконой над письменным столом.
«Это какой же век?»
«А хрен его знает… У одного алкаша купил».
«Твой портрет, что ли?»
«Мой, а чей же».
«Похож, — сказал Бабков. — Только ты тут слегка помоложе».
«Давно дело было».
«Да и змей… того…»
«Змей как змей. Ну чего, — сказал хозяин, — раздевайся, что ли, раз пришёл. Стихи пишешь? Молодой поэт?..» Он швырнул в угол пилотку, снял шинель, осмотрел её внимательно и повесил на гвоздик.