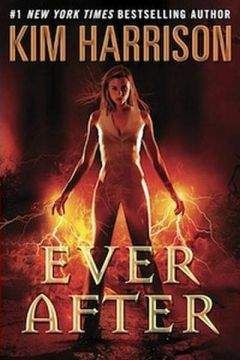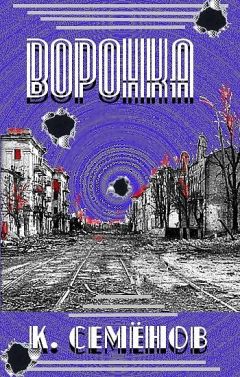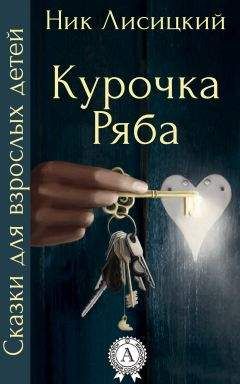Анатолий Курчаткин - Курочка Ряба, или Золотое знамение
— …фимовна! — позвали ее откуда-то, с какой-то лавочки, но Марья Трофимовна, не поглядев откуда, только занято помаячила рукой: не могу, не управилась, — и, постаравшись поскорее пробежать по улице, нырнула в калитку Марсельезы.
— Ну чего, на старика бумагу в милицию писать будем? — встретила ее Евдокия Порфирьевна.
— Ты что, ты что, — замахала на нее руками Марья Трофимовна.
— Ладно тогда, — смилостивилась Евдокия Порфирьевна. — Погодим пока. А чего тогда, какое дело такое?
О, как запинаясь и что творя с родным и могучим русским языком, какие склонения с какими падежами перемешивая, просила Марья Трофимовна ее «машинку»!
Веселясь про себя, Евдокия Порфирьевна молча выслушала заикания Марьи Трофимовны и, когда та закончила их, спросила:
— Чего эт вы молоть собрались?
С таким недоброжелательством и любопытством она спросила, что Марья Трофимовна в ответ забормотала уж совершенно невразумительное:
— Дак надо вот… старику приспичило… ночь на носу, а он поди да поди… ну, старика моего знаешь же…
— Кофе, что ли, ему приспичило? — язвительно спросила Евдокия Порфирьевна. — Да вы кофе-то отродясь не пили!
Марья Трофимовна вспомнила о принесенной дочерью коричнево-лаковой жестяной банке.
— Во-во, кофе! — обрадованно ухватилась она за мысль Марсельезы. — Надька тут приволокла. Особый кофе-то, растворимый, как не попробовать.
— Растворимый?! — Евдокия Порфирьевна едва не подавилась со смеху. — Да он же и так в порошке, че эт его молоть?
Марья Трофимовна поняла, что попалась. Но отступать было некуда. Оставалось переть дальше, напролом.
— Так я ж говорю: совсем особый. Особо растворимый! — подчеркнула она со значением. И вдохновение не оставило ее и дальше: — Это только в их пайке такой бывает, больше нигде-никогда. Его молоть непременно надо.
И с таким убеждением она говорила, с такой верой, с такой искренностью, что Евдокия Порфирьевна даже и поколебалась в своей правоте. Черт знает, в том пайке все могло быть.
— Во как, значит? — сказала она. — Ну пойдем, дам.
Она завела Марью Трофимовну в дом, достала белую пластмассовую, похожую на сахарную голову бандуру миксера, объяснила, как с ним обращаться, и, отдавая Марье Трофимовне, наказала:
— Только нынче же и верни! На завтра не оставляй. Вещь дорогая, да теперь нет нигде.
— Да уж будь покойна, будь покойна, — благодарно отозвалась Марья Трофимовна. — Мы и аккуратно, и нынче же, будь покойна.
Игнат Трофимыч встретил ее с ухмылкой неверия:
— Дала?!
Вообще говоря, он надеялся, что Марсельеза не доверит им свою мельницу. И, удивясь странной для нее отзывчивости, огорчился. Не хотелось ему больше никакой возни с этой скорлупой. На сегодня, во всяком случае. Но если бабе припрет — разве же можно вставать ей поперек… Оставалось только испить чашу до дна.
— Обучилась, как управляться? — лишь и спросил он.
— Не то как же! — гордо ответила Марья Трофимовна.
Тут, пожалуй, в этом месте, когда неотвратимо, со все возрастающей скоростью, будто поезд с отказавшими тормозами, несущийся под уклон, приближается, подступает конец всей их прошлой жизни, надо бы сказать о ней, этой их прошлой жизни, несколько слов. Хотя, если по правде, ничего такого особого, ничего такого необыкновенного сказать о ней нечего — обычная была жизнь, обычней некуда. Что было со всеми — то было и с ними, ничего не минуло. И если говорить об их жизни, то следовало бы взять учебник истории и вместо слов «народ», «трудящиеся», «население страны» вписывать их имена: «Марья Трофимовна», «Игнат Трофимович», «Марья Трофимовна», «Игнат Трофимович». Ну а если что и отметить, то отметить придется тоже самое заурядное: что, живя этой своей, прошлой теперь жизнью, всегда старались они жить по совести, по закону, по правде — как бы и что бы ни было…
А толку от миксера не оказалось никакого, ровным счетом — напрасно возлагала на него Марья Трофимовна надежды.
Следуя инструкциям, полученным от Марсельезы, они с Игнатом Трофимычем засыпали золотое крошево внутрь, закрывали камеру крышкой, включали мотор, считали до шестидесяти — чтобы он работал не больше минуты, а иначе, предупредила Марсельеза, перегорит, — открывали крышку, исследовали крошево — оно не мололось. Добавляли, убавляли, выжидали десять минут, чтобы не гонять мотор, опять же согласно полученным инструкциям, больше трех раз подряд, — все без толку. Явно не известкой была скорлупа…
Отрешенное, умиротворенное спокойствие сошло на Игната Трофимыча. Радостное даже, пожалуй, спокойствие.
— Все, хорош, точка, — сказал он после очередной неудачной попытки, принимаясь выгребать из миксера чайной ложечкой насеченное крошево.
Марья Трофимовна было посопротивлялась ему, требуя попробовать еще раз да еще, но, в общем-то, ясно было — без смысла все, и сдалась.
— Ну, хорош так хорош, — сказала она. И забрала у Игната Трофимыча миксер. — Дай я его там тряпочкой вытру. Чтобы, не дай бог, не осталось чего.
— Вытри, — согласился Игнат Трофимыч. — Правильно.
— Утро вечера мудренее, — подвела итог Марья Трофимовна. — Утром, глядишь, чего-нибудь новое в голову стукнет.
5
Евдокия Порфирьевна уж давно бы легла спать, в нетерпении постели переоделась уже в ночную рубаху, открыла одеяло, взбила подушку, но не ложилась, все ходила по дому, отыскивая себе то одно дело, то другое, — ждала Марью Трофимовну.
— Ну мелют, ну мелют, — в раздраженном недовольстве бормотала она себе под нос время от времени. — Тонны у них там, что ли… Кофе они мелют… растворимый!
Прав был Игнат Трофимыч, удивляясь неожиданной ее отзывчивости. Хотя и готова была Евдокия Порфирьевна поверить, что в том пайке может быть такой растворимый кофе, что нужно молоть, однако же самой Марье Трофимовне она не верила — не верила, что кофе им понадобилось варить! — видела она старуху насквозь, до дна, всю ее немудреную хитрость, и врожденный профессиональный нюх подсказывал ей по виду Марьи Трофимовны, что необычное что-то собрались они молоть, что-то особое, оттого и дала, что любопытство оказалось сильнее.
Поздние сумерки были уже на улице, фонари зажглись на столбах, когда, наконец, в окно с фасаду тюкнули слабенько.
Евдокия Порфирьевна всунула ноги в уличные чуни и выскочила к калитке.
— Ты, Трофимовна, что ли?
— Я, я, — отозвалась с улицы та. — Прими. А то спустила, поди, Верного-то.
— Ну, намололи? — не осилив жадности в голосе, хотя и старалась изо всех сил равнодушно, спросила Евдокия Порфирьевна, открыв калитку.
— Спасибо, милая, спасибо, — угодливо поклонилась старуха, подавая миксер. До чего угодливо поклонилась — чистая безбилетщина, откровенная! — Помололи, хорошо помололи.
— Попили?
— Чего?
— Ну растворимого-то!
— А-а! — поняла старуха и так прямо вся и встрепетала. Безбилетщина поганая. — Попили, Дуся, попили.
— А чего ж не принесла-то, не угостила?
Старуха потерялась.
— Дак… а это… мало совсем было… вышли все, еще и не хватило…
— Целую банку?
— Целую банку, ага, — послушно согласилась старуха с нелепым предположением Евдокии Порфирьевны и, ничего не говоря больше, не попрощавшись даже, рванула от калитки в свою сторону — точь-в-точь «заяц», бросившийся к открытой двери.
— У меня не уйдешь! У меня никто не уходит, — и сама чуть не бегом, чуни лишь и мешали бежать, направляясь с миксером в дом, приговаривала сквозь зубы Евдокия Порфирьевна. — Ишь, дернула!
Спеша, не закрыв как следует двери, она подсунулась с миксером под свет настольной лампы и, сняв крышку, тщательно оглядела ту, а потом и камеру. Но и свод крышки, и камера с ножом — все было девственно чисто, сияло стерильной изначальной белизной. Евдокия Порфирьевна наклонила миксер, заглянув под нож с одной стороны, с другой, послюнявила палец, провела им по валу, на который нож был насажен, — на палец ничего не налипло.
— Старички божьи! — с досадой вырвалось у нее.
Ей подумалось в этот миг, что «заяц» выскочит из двери и она не сумеет его сцапать.
Но недаром же говорят, что врожденный талант — талант от Бога. Будь кто другой на ее месте — отступился бы, а талант Евдокии Порфирьевны подсказал ей еще один способ. Можно сказать — старинный, народный. Накрепко забытый. А в ней вот, где-то в глубине ее, сохранившийся и в нужный момент проснувшийся.
Евдокия Порфирьевна вытащила из стола банку с медом, окунула в него слегка мизинец, дала меду, подняв палец, растечься по всей подушечке и этим-то медовым пальцем залезла под основание ножа.
А когда она вытащила его оттуда, на влажно-блестяще обдернувшейся медом подушечке тускло сияла желтая крупица.
Как ни тщательно протирала Марья Трофимовна миксер, а судьба оказалась ловчее ее. Достаточно было застрять одной, чтобы раскрыться их тайне, — одну судьба и упрятала.