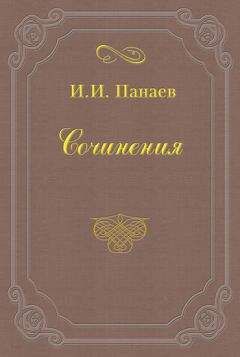Дмитрий Савицкий - Passe Decompose, Futur Simple
Тем далеким летом они начали говорить на странном языке отрывочных цитат. Стоило одному из них увидеть под мостом у Белорусского бабку с целым кустом жирной, только что наломанной сирени, второй уже несся вскачь: "Художник нам изобразил глубокий обморок сирени…" Стоило помянуть бритвенное лезвие, и оно вытаскивало из памяти "пластиночки "жилетта" аккуратные записочки от дьявола…"
То был год превращений: из скуластого угловатого пацана Борис вдруг превратился в розовощекого застенчивого молодого человека, страдавшего приступами задумчивости такой силы, что он буквально вываливался из действительности. Окрик или похлопывание по плечу не вышвыривало его из другого мира, а впихивало в этот, и он дико озирался, хлопал девичьими ресницами и мямлил что-нибудь совершенно невпопад.
Из Питера накатывал к Завадским Женя Смоков, балетоман и оперный маньяк. Был он на семь лет старше Бориса и уже выпустил в каком-то провинциальном издательстве тонкую книжечку на серой, наждачной почти что бумаге, о Марии Каллас, Доницетти и Беллини. От него-то к отечественному речевому захлебу прибавился захлеб оперный, нездешний. Итальянскому их два раза в неделю учила мать Кима. В школе же был английский, в котором оба они плавали брассом и кролем. Именно в те времена, намаявшись со случайно найденным в буках на Сретенке потрепанным томиком Джойса, Ким начал называть Бориса — Кинчем.
— Come up, Kinch. Come up, you fearful jesuit…
— Пешком до Сивцева?
— Che dici?
И, веером пустив страницы растрепанного либретто: "Regnava nel silenzio alta la notta e bruna"… — это же Фрэнк Синатра! Начало "Strangers In The Night!" — "Regnava nel silenzio…"
* *Август был дождливым, проливным, промозглым. Возвращаясь от Майи в город, вываливаясь на платформу Белорусского вокзала, Ким часто рисковал сломать себе шею. Не от того, что скользили по мокрому асфальту подошвы, и не от того, что размокшие окурки, газетные обрывки и прочий мусор были опаснее мартовского гололеда, а от той ликующей слабости, что размывала тело. Но он третий год уже занимался борьбой в тускло освещенном полуподвальном зале на Ленинградском шоссе и, в тот единственный раз, когда скорость и слабость, схлестнувшись, сбили его с ног — ловко, как учил мастер спорта Гамбулаев, перекатился через плечо, оберегая тяжелый хромированный "зенит" в отставленной руке, свою первую фотокамеру, с которой он теперь не расставался.
Соседи по коммуналке согласились на общем кухонном совете под бульканье разнокалиберных кастрюль отдать ему под фотолабораторию захламленную кладовку в конце псориазного коридора: четырехметровую безоконную клеть с органом сырых труб, урчащих и булькающих, на которых лопалась и струпьями свисала масляная краска.
Его первым снимком был Кремль. Затонувший, размытый волною Кремль. Его отражение. День был солнечный, с легкими перистыми облаками. Широкоугольник "зенита" взял Кремль целиком от башни до башни, с Иваном Великим, Успенским собором, с летящими по набережной автомобилями, с детьми и пенсионерами, выгуливающими собак под высокой стеною, с вытянутым и скошенным вбок отражением в реке — башен, крыш, куполов, крестов, зубцов стен и облаков над золотыми крестами.
Печатая снимок, Ким оставил лишь нижнюю увеличенную часть, отражение Кремля в мелкой речной ряби, и, вставляя снимок под стекло в ореховую раму, где раньше был зажат групповой фотографический портрет исполнителей какой-то чеховской пьесы, снимок перевернул — крестами и куполами вверх.
Утопленник-Кремль, призрак отечественной истории, сорвал с губ матери несвойственное ей патетическое восклицание. Про групповую сепию чеховских героев она, отворачиваясь и громко сморкаясь в клетчатый платок, сказала: Это возле Алупки в Крыму. Семья твоего деда. Щуйских. У них там было летнее имение… И, пряча платок в карман фартука, закончила: Чехов! Боже мой! Действительно Чехов! Дурацкий спектакль, который больше не идет…
Отец Кима был жив. Он жил на набережной напротив Кремля, в сталагмитном сталинском небоскребе и ездил в черном лимузине с личным шофером. Они никогда не виделись. Был он драматургом, писал пьесы. Но в столице и на периферии шла лишь одна — "Полуденные звезды", написанная еще до войны.
Мать уверяла Кима, что его имя ничего общего не имеет с Коммунистическим Интернационалом Молодежи, и что отец его, Иннокентий Щуйский, выбрал имя это из-за любви к Киплингу.
— И к своей основной профессии, — язвительно добавляла она.
* *Уже не по своей воле спрыгивал Ким на полном ходу через борт вездехода в армии: АКМ в правой руке, полы шинели подвернуты, вещмешок и саперная лопата за спиной да жирная сибирская грязь, примятая дикая трава или же синий снег под ногами.
Он прыгал и с парашютом, и в конце второй тренировочной недели, на спор со все тем же неразлучным рядовым Завадским, умудрился расстегнуть комбинезон, сдвинуть скрещенные ремни и отправить вниз, упругую струю, которая мгновенно распылившись, замочила ему лицо.
Тридцать семь месяцев службы тянулись бесконечно долго. Второе свое армейское лето Ким умудрился просачковать, работая гарнизонным фотографом при армейском клубе. Смотры на огромном бетонном плацу, полевые стрельбы, чистка оружия, физзанятия, смена караула, полковой оркестр и уборка территории, все это, по словам замполита Руденко, невысокого рыжего хохла, раз и навсегда потрясенного своей удачной карьерой — ему было от силы тридцать — "должно было найти воплощение в черно-белой, а при случае и цветной, — пленку достанем — фотографии, для дальнейших стендов и публикаций…"
На снимках той, кирзой и тройным одеколоном пропахшей эпохи, ослепительно сияли надраенные пряжки и пуговицы, сапоги и тщательно выскобленные подбородки фазанов и стариков. Салаги для фоток не годились: вид у них был растерзанный, жалкий. Рядовой состав вообще, даже отщелканный в "оптимальных" по учебнику Козырева, условиях, при косом закатном солнце, выглядел на сто ватт тусклее сержантов и офицеров. Макаронники всегда выглядели одинаково сонно и свирепо, служба их не засаливала.
Полковой оркестр, банда алкоголиков, выпускаемая по приказу штаба каждую субботу в город играть на танцах, на снимках Кима весь умещался в раструбе и на боках геликона: карлики и жирафы в фуражках на клетчатом фоне казарменных окон. Были на стенах проявочной в подвале гарнизонного клуба снимки поникших лип, шагающих гуськом, как у Пастернака, друг дружке в затылок, лип, крашенных из распылителя масляной зеленой краской за день до приезда генеральской инспекции из Москвы и продержавшихся в живых еще целую неделю после отъезда высокого начальства. Была перекошенная девятнадцатимиллиметровым объективом голова гарнизонной лошади Фря, официально — Звездочки, везущей к КПП телегу пустых ящиков. Был Батя, стриженый под седой ежик, широкоплечий и, несмотря на гигантский рост, легкий, как девушка, полковник Разгудин — на ночных стрельбах прикуривающий от чьей-то зажигалки, сложивший здоровенные ладони лодочкой. Штатива в клубной фотолаборатории не было и Ким, зажав гэдээрушную "Практику" двумя патронными банками, снимал на длинных выдержках от полминуты до двух, мягко, чтобы не сшатнуть импровизированную конструкцию, отбиваясь от комаров.
Ночное небо на этих снимках было исхлестано веерами огненных траекторий, а на одном из снимков чуть смазанный движеньем Батя, стоя у штабного газика, улыбался начальнику медчасти Сарымовой и его хромовые сапоги, высвеченные вспышками ручных пулеметов, сияли в высокой траве рядом с полосой холодного крупного, смешанного с гильзами песка. Снимок этот Батя забрал себе, в штаб, и держал его под стеклом возле телефона. Лейтенант Сарымова, темнолицая и полногубая татарка, многих хворых лечила одним неортодоксальным способом, поэтому попасть в санчасть означало не просто сачкануть.
Пленку Ким получал в бобинах, рулонами по тридцать метров и особенно не экономил. "Практика" аккуратно заглатывала бытовые сцены, крамольные для гарнизонных дадзыбао и областной газетенки, но бесценные для его собственного архива: полковой барабан, на котором в шесть рук резались в карты сачки-музыканты; эмалированные кружки с контрабандным шестидесятиградусным спиртом, сведенные вместе под забытый тост над горой окурков в патронной банке, стоящей на толстощекой ряхе Хруща; или же казарму во время послеобеденного мертвого часа — ряды двухярусных коек, на которых в пыльных снопах летнего солнца, бьющего сквозь высокие настежь распахнутые окна, мускулистые отроки соревновались в неолимпийском виде спорта — у кого громче хлопнет по животу оттянутый книзу и взведенный как курок детородный орган….
Тридцатипятимиллиметровый лейпцигского завода объектив выстригал из нудно волочащихся буден затылки салаг, высвеченные лучами кинопроектора, дважды дырявый камзол Жерара Филиппа (экраном была рваная простыня), тяжелую кирзу в черной грязи осенней дороги, сапоги, сапоги, сапоги — до самого горизонта, до того места, где проселочная хлябь соединялась с хлябью небесной…