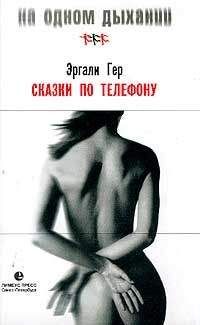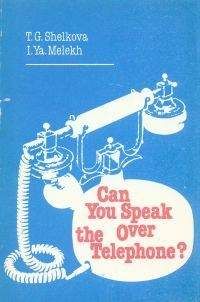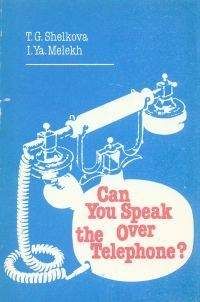Виктор Шендерович - Операция «Остров»
Моцарта выслушали и мягко попросили не строить из себя целку. Времена стояли нешуточные, каждый пиароноситель по обе стороны баррикад был на строгом счету.
Пришлось полюбить президента. Но Песоцкий же не мудило-губернатор перепуганный, чтобы задницу лизать принародно! Все было исполнено с должным целомудрием, в виде личного порыва: Россия нуждается в отдыхе от потрясений, в стабильности… Ну, текст вы знаете.
Президентом откупиться не удалось — пришлось облизывать и дворню, рулившую телеканалом. Это было условием нового контракта, а уйти на другой означало объявить войну — в останкинских же коридорах, в процессе акционирования, все пошло как-то совсем не по-детски, с трупами... И замажорили на этих просторах такие внезапные перцы, что нашему моцарту только и оставалось что притвориться блаженным.
Нет, не должен гений отвлекаться от своих форшлагов и осьмушек, не царское дело!
Главные душевные муки у Песоцкого были впереди, но он еще долго скользил по самому гребню волны, изображая одинокого интеллектуала. Люди помнили его таким — молодым, сильным, независимым… — и в длинной тени прежней репутации еще много лет прятался он от репутации новой. Она приходила медленно, но пришла.
Ибо замечено было (cначала теми, кто повнимательнее, а помаленьку и остальными), что во все зыбкие времена — когда царил Гусь и когда винтили Гуся, когда кидал Береза и когда кидали Березу, — свободный интеллектуал Песоцкий, весь в белом, неизменно оказывался с победителями.
С победителями, но немножечко сбоку.
Там, где делят трофеи, но не забрызгано кровью.
Когда он оказался с победителями и в двухтысячном, никто уже не удивился.
Этот виток, правда, потребовал от Леонарда новых умений, потому что ребята пришли с морозу совсем простые и, чуть чего, ломали об колено. А Песоцкий, художественная натура, хотел прелюдий и любовных игр: он привык, чтобы им сначала повосхищались… Он сам отдастся, но по любви! В крайнем случае из благодарности. А эти дали минуту на раздевание и подмывание, и чистыми руками — прямо туда… в бизнес.
Но пришлось полюбить и это. Пришлось научиться закрывать глаза и возбуждать себя самостоятельно. Видеть поверх всего этого — государственный интерес. Поверх разбоя, подлости, крови… Даже что-то стоическое появилось в эти годы во взгляде Песоцкого, ибо сколько же надо вместить любви к Родине, чтобы задавить в себе всякое человеческое поползновение!
Он научился говорить «мы», цитировать Ильина и Столыпина... Им нужен хаос; Россия стоит на судьбоносном переломе, и мы не можем допустить, чтобы кучка авантюристов... Ну, текст вы знаете.
В общем, освоился моцарт.
Потом он вступил в эту козлиную партию — никто, собственно, уже его и не спрашивал, разговор в те годы был короткий, выбрасывали из бизнеса в момент. Причем «из бизнеса» — это еще льготный вариант, это если не залупаешься… А то могли заодно и законность укрепить. В общем, позвали, сказали: надо. Пришлось участвовать, фотографироваться под их медвежьим тотемом, подписывать мерзкие письма…
Слава богу, отец уже помер к тому времени.
* * *Песоцкий сидел на террасе, глядя на море с камнями, и медленно добирал с тарелки фруктовые куски. Кофе он пить не стал, надеясь доспать по-человечески после завтрака. Глаза закрывались, и меж веками и глазными яблоками промелькивали сполохи тревожных сюжетов.
Отец. Тяжелые, просящие мрамора черты… Патриций, переживший империю. В свой последний год он совсем замкнулся, не звонил, разговаривал кратко, недоговаривал…
Когда звонили ему, трубку брала сожительница. Все понимал Леонард, и, сколько мог, уговаривал себя, но не помогало — не переносил он эту Раису, желваками закаменевал от ее длинных банальностей, от кофт и варений, в бешенство впадал от запаха духов… И при церемониальных визитах в чужой теперь отцовский дом с трудом держал себя в рамках протокола.
Его эта Раиса называла «наш Лёник». Убил бы.
Про дела сына академик давно не спрашивал. Когда, в больнице, заполняя мучительную паузу, Песоцкий начал рассказывать что-то про свои проекты, рассказ повис в пропитанном неловкостью воздухе. Потом отец сказал:
— Жалко, что я не уехал.
И Песоцкий вздрогнул от отцовской жестокости, — так очевидна была связь этих слов с его, Леонарда, жизнью.
Отец умер не от того, чем болел в последние годы. Инсульт превратил его в мычащее существо с просящими избавления глазами. Избавление пришло только через полгода, и в тоске окончательного сиротства Песоцкий различил горькое чувство облегчения, которое постарался сразу выгнать из мозга.
Но выгнать не успел, и мозг безжалостно отрефлексировал стыд той секунды. Да, вот в чем дело: он уже никого не огорчит.
Кроме Марины.
* * *В тот день все было словно пропитано влагой и печалью: деревья, стены и кусты темнели в полусвете, и времени суток было не понять без циферблата... Два раза в год Песоцкий приезжал на Донское кладбище, тогда еще только к маме.
Он рассеянно постоял у гранитного прямоугольника (камень и надпись были тщательно протерты кем-то), положил свои розы рядом с двумя хризантемами, сказал кому-то:
— Ну, вот… — и пошел по дорожке к выходу.
Он знал, что скоро приедет сюда хоронить отца.
— Вот молодцы, — поклонилась ему местная бабушка, божий одуван, — вчера и сестра ваша приезжала… Хорошая какая семья, помните свою матушку!
Песоцкий кивнул, не вникая, но, уже подходя к «мерсу», остановился. Постоял несколько секунд, махнул рукой водиле — я сейчас — и вернулся к воротам.
Бабушка возилась со своими вялыми гвоздиками.
— Добрый день, — сказал Песоцкий. — А что, к нашей могиле вчера приезжали?
— Конечно, милый. Сестра-то ваша. Она часто приезжает…
— Спасибо, — сказал Песоцкий.
Он постоял, подошел снова к маминому надгробию, посмотрел на две белые хризантемы на камне и опять двинулся к выходу.
Десять лет прошло с той сволочной истории с его посредничеством и горькой попыткой поцелуя, и все что угодно, кроме любви, уместилось в эти годы. Голосование сердцем и покупка асьенды по правильному шоссе, войны с Зуевой, шесть премий «Тэфи», пара кинопроектов нездешней сметы, и вынос мозга населению, и внос в Кремль нового президента, и череда баб, трахнутых в борьбе с неиссякающей потенцией…
Мелькнула фотография в глянцевом журнале — в спутнице модного дизайнера на каком-то, прости господи, фэшн-пати папарацци опознали бывшую жену банкира N., г-жу Князеву… Этот глянец схлынул с Марины, а Песоцкого с грохотом понесло дальше через пороги с бурунами.
Но в тот влажный октябрьский день он позвонил ей и услышал забытое тепло в голосе.
Она уже была замужем за своим Марголисом — тот маленький индеец с демонстрации девяностого года преданной осадой добился-таки своего. Но солнце так и не согрело этот невеселый брак. Детей у них не было — у нее и не могло быть, а он до сорока лет жил со своей мамой: ждал Марину…
Ходил Марголис с палочкой, припадающим шагом — что-то случилось с суставами — писал в оппозиционные сайты, рассылал по всему миру правозащитные пресс-релизы, которые немедленно уходили в спам, ходил в угрюмых завсегдатаях этих игрушечных баррикад…
Песоцкий презирал неудачников — аудитория ниже миллиона его не интересовала. Персонально Марголис, понятно, еще и раздражал.
Марину было жалко, себя тоже. Они сидели в тихом подвальчике на Ордынке, пили фреш и ристретто, глядели друг другу в глаза и пересказывали прожитые врозь годы, заполняя лакуны и сопоставляя даты. Это стало их горьким лото: а где тогда был ты… а где ты?
После института она вернулась в свой Воронеж, потом по какому-то обмену поехала в Америку, на два года зависла в Нью-Йорке, но так и не вписалась в ту прямоугольную жизнь.
Слова «брат» и «сестра» прижились между ними (он, конечно, рассказал ей про встречу на кладбище). Да, это была она, и годы спустя пораженный Песоцкий узнал о дружбе двух женщин, юной и уходящей. Марина звонила маме после их разрыва, приезжала в больницу на Каширку… Песоцкий вспомнил, как мучилась этим разрывом мать, как пыталась заговаривать о Марине, и как он резко обрывал эту тему: было слишком больно.
В тот год он пытался вышибить клин клином, и осенью закрутил роман с Леной Карелиной, изящной брюнеткой и признанным первым номером кафедры. Они были парой для обложки журнала «Огонек» — умные и красивые, но щекотки самолюбия было больше, чем радости, да и привести ее в родительский дом Песоцкий так и не решился.
К весне, поставив галочки в графе «успех», они с облегчением разбежались, и Песоцкий не придавал этому эпизоду своей жизни никакого значения, пока не узнал, спустя почти двадцать лет, что Марина видела их вдвоем той зимой, сладкую парочку.