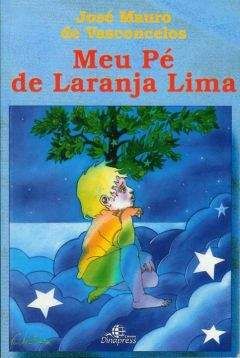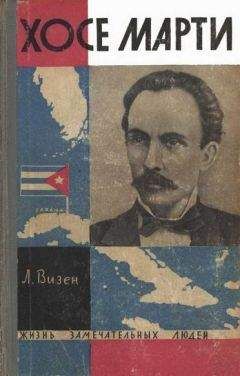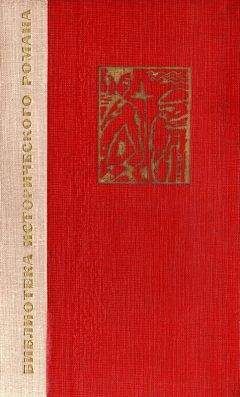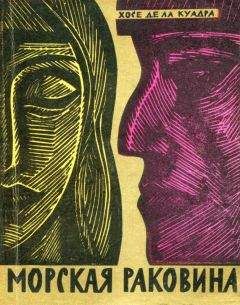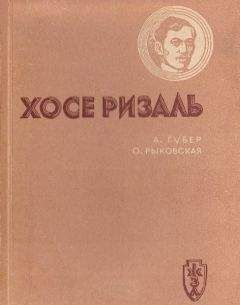Хосе Лима - Зачарованная величина
В поэме два существа под стать друг другу: зверь в виде карбункула и чудесная коза. Благодаря тут же преображенному в послушное орудие зверю с головой карбункула изливается и даруется отпущенное каждому время сияния. Коза же, как бы преображаясь и мерясь силами с гигантским посохом, возносится, а затем, тоже обращенная в подручное средство, руководит празднествами, следя за порядком и бодрствованием.
Но порой карбункул выкрадывают, чтобы потрогать или присвоить, и тогда все вокруг закипает брызжущей из бутыли пеной. Или коза до того натруживает рога в беспрестанном извержении даров, что окрестность стягивается узлом, чтобы не перелиться через край, а Гонгоре приходится менять декорации, пока карбункул сморила дрема: коза несет между рогами уведомление о новом декоруме, и занавес поднимается, открывая берега Нила. Метаморфозы у Гонгоры опираются на греко-римскую мифологию. После венчания и шествия красок, переплетающихся с музыкой трубящих раковин, кордованец вдруг чувствует несвоевременный и неуместный толчок — сменить опоясывающий окрестность горизонт, отправить отары своих карбункулов и коз на иные пастбища. И вот с горных хребтов Кордовы действие переносится на берега Нила. Приют для путника, увешанные стрелами и медвежьими головами деревья исчезают, уступая место новому заднику — к счастью, это красоты Нила, а не прогалины латиноамериканского леса:
Заброшенные, сохли и пустели
те земли{65}, Писуэргою омыты,
лишь знать порою их животворила,
словно Египет — половодья Нила.
Пышная горская свадьба преображается в египетский гладиолус (чураясь вульгарности римского гладиолуса, дон Луис ставит свой балаганчик на берегу Нила, в краю, столь расцвеченном обыкновением картографов). Раньше, чтобы поведать о сновидческих метаморфозах плодов и рыб, ему был нужен рог, теперь его живописи требуется гладиолус. Козопасы одним прыжком срываются с горных хребтов Кордовы, очнувшись уже на берегах Нила. Новый египетский Геракл в замешательстве перед раздачей даров. Участники нового шествия должны быть размалеванными и в масках: горянки обращаются в нимф, козопасы — в сатиров. И во всей этой игре и битве пены и облаков как будто чувствуется прозрачная тяжесть птичьего пера, Сновиденное перо, попавшее из павлиньего хвоста в странный сон, парит на ветру абсолютной прозрачности небесного зенита, не нарушенной ни весом, который бы ему помешал, ни тяготением, которое низвергло бы его в земной океан.
Развивая мелькнувший еще в начале намек на конечно же обожаемого и облагороженного американского павлина, «который в гневе / жемчужный лик упрячет в кошелек»{66}, рядом с нахмурившейся козой, превращениями козопаса и нимфами деревьев и угля готовится пир. Для речи, движимой воображением, пиршество — не застывшее изваяние, а повод открыть шествие. Пир — это как бы центр, откуда удобнее всего обозревать шествие, процессию. Горы и долины навевают козопасам и горянкам смутные сны, но, пробудясь, они оказываются, увы, все там же. Американский павлин нужен был, только чтобы начать пир.
Это празднество пронизано колодцами и галереями сна. У Хуаны Инес де ла Крус{67} в ее «Первом сновидении» тяжкий сон amateur’a[8] схоластики завершается сельской сценой. У Гонгоры же сон — это миг изумления, отделяющий только что случившееся от новой неожиданности. После того как сон пал на горянок и торжества, появляется скрывавшийся путник Сон сглаживает торопливость и неотвязность празднества; унимая горячку предыдущего, он словно готовит нас к прибытию путника, иначе говоря — человека, не знающего, кто он такой. Сон и вводится из опасения, что приход и непринужденность путника не бросятся в глаза на фоне все того же неизменного пейзажа. У сестры Хуаны сон и пейзаж — одной природы, это все та же ночь: никакой проницательности не обнаружить здесь ни просвета, ни демонического магнита, не открыть новых форм и деревьев. «Похожа на земное, / маня и высотой и глубиною, / но не являя ни единой грани», эта материя рождается не из леонардовской тени, оставленной на стене испарениями сна, от которого пробуждаешься с новым, пронзительным чувством к окружающему Притупляя в руках гонгорианские стрелы, природа в этом текучем сне так и не доходит до запечатленности снова увиденных далей.
Гонгора часто упоминает компас, «компас сновиденья»{68}, и те или иные числа: горец у него беспокоится, что на свадьбе в знак соединения брачащихся зажгли больше пяти плошек. Стоит утерять компас, и мы опускаемся в сон, в ночь, в преисподнюю. Тогда врывается Аскалаф{69}, наветчик с топазовыми глазами. Это он помешал Прозерпине вернуться к свету дня и оповестил Юпитера о том, что в ее теле уже есть зернышко ада. Но в этом нисхождении во тьму, не схожем с павшей на тело или дерево ночью, от нас ускользают глаза, топазовые глаза Аскалафа, ибо нисходящий — вода, просачивающаяся в глубь земли, — приуготовляет соитие Плутона с Прозерпиной.
В этом сне являются не только топазовые глаза наветчика Аскалафа, но и гиблая молния охотничьих соколов. Мерное, неспешное и леденящее нисхождение вдруг обрывается взметнувшейся соколиной стаей. Молния, грянувшая из темноты, чтобы исчезнуть в неуследимой точке зенита. Задержимся взглядом на алете, американском соколе, который кажется недоверчивым глазам дона Луиса «подделкой, пустячком для простака: / орел, а суетливей мотылька»{70}. Откуда эти обвинения американского сокола в нелепых бросках, словно он необучен и несдержан, раскаляясь до преображающего огня и в то же время хвалясь подделкой? Америка для Гонгоры — это естество, впавшее в первородный грех, в немыслимую и неизлечимую болезнь, когда борются природа и дух. В охоте с алетом используют сети, а в них одинаково бьются и орел и мотылек. Но отчего он так раздражен этими упражнениями на осторожность и дальнозоркость, этим смешением сна и первозданной тьмы, этим духом, который еще не подчинил себе абсолютное сознание чащи?
Манера Гонгоры обращаться со стихом напоминает подчас приемы и правила натаски охотничьих соколов. На голову им надевают шапочку, создающую видимость ночи. И когда эти мнимые ночные колпачки сняты, у птиц сохраняется память о способности видеть в темноте, и они, стоит встрепенуться журавлю или куропатке, мигом различают их из любой дали. Всеподчиняющая молния рассекает ночь, но трепет уже стерт светом и растворяется в прожорливой белизне дня. Сияние стиха вспыхивает на грани или щите, но, соприкоснувшись с ними, луч света переламывается, искрится, и тогда, в этом мгновенном самовозгорании предмета, на крючок попадает тот единственный смысл, о котором у нас уже шла речь. А поскольку есть вещи, которых не извлечь из окутавшего их мрака или сна, блики, не прерываясь и не слабея, отражаются от непроницаемой поверхности и ослепляют рикошетом сами себя. В греческом мифе для спуска в подземный мир необходимо облачиться в черные одежды и не снимать их трижды девять дней. Гонгора же, напротив, хочет спуститься, вооружась лучом и разгоняя ночную сырость молнией соколиных дротиков.
Говоря о возмущении света, мы упомянули один вид соколиных, — кречета. Дон Луис называет его «невиданным возмущением ветра»{71}, позже это выражение повторяет Кальдерон. Вот отличие стиснутого и каленого барокко Гонгоры от изогнутого, гибкого и неспешно струящегося барокко Кальдерона, для которого пистолетный выстрел — «неслыханное возмущение ветра». «Всевозможные препоны / обращай себе в угоду»{72}, — гласят кальдероновы строки. Какая дистанция между горделивым лучом кордованца, мечущего свою все подчиняющую молнию в трагических поисках единого времени бытия в свете, и изощренностью Кальдерона, бросающего мертвый и промозглый луч, словно еще глубже уходящий в застой болотной жижи!
В Гонгоре нет той тяги к поэтическому воплощению поздней схоластики, которую чувствуешь в ликующих назиданиях Мориса Сэва{73} или в слабеющем дыхании иных его современников, чьи цепляющиеся друг за друга строфы напоминают, как у Жана де Спонда{74} или Джона Донна{75}, шитье по канве опоэтизированного силлогизма. «Кровать — твой центр, а круг твой — эти стены»{76}, — строка Донна соскальзывает к комплименту, сплетаемому стихом в сладострастной самопоглощенности мыслящей субстанции, а не в том озарении чувств, которое пронзает суть, извлекает ее и, заново открыв, мало-помалу успокаивается. Гонгора живет скорее тем барокко, которое еще дышит раскаленным пеплом готики, чем мертвенной алмазной искрой Кальдерона, этой опрощенной милостью, уменьшенной копией великих таинств Тридента или непорочного зачатия, разменной монетой тридентской доктрины об оправдании. Свет является у него без контрастов и всплесков вместе с самим миром, где кристаллизуется и сверкает средневековая силлогистика, миром, который преподавателям видится праздником, одушевлением и круговоротом разработанных ими школьных программ по изучению Аристотеля; похожую связь ощущает наш современник в некоторых строфах «Морского кладбища»{77}, узнавая в них поэтическое воплощение и оперную версию очерков Виктора Брошара{78} об апориях элеатов{79}. К одной из своих книг Поль Валери{80} взял эпиграфом строку Гонгоры, процитировав ее неточно, но так, что ошибка его, на наш взгляд, абсолютно закономерна. «В кристальных скалах юркая змея», — цитирует Валери. Собственные предпочтения толкают его к мысли, будто змея должна продвигаться, оставляя и руша свои письмена на контрастирующей с ними застывшей материи. Он ищет незыблемый фон, «кристальные скалы», где и могут развернуться сумрачные змеиные игры. Однако в первой строке «Взятия Лараче»{81} у Гонгоры стоит: «В кристальных блестках юркая змея». Разница между оригиналом и цитатой продиктована такой установкой, таким исходным видением, которые, по сути, разрушают поэтическую реальность цитируемого стиха. Валери ищет в материи точку опоры, чтобы змеи проступили на светлых скалах, превращаясь как бы в отсвет их алмазного состава. У Гонгоры речь о другом: о побудительном толчке, о постоянной отсылке к движению, вновь и вновь воссоединяющему металлические звенья, о метафоре, что катится, словно охота, а потом саморазрушается во вспышке скорее рельефа, чем смысла. Впечатление, порождаемое словом «скала», тянется за змеей, как бы спаянное с нею, сводя и кристалл лишь к последовательности кратчайших отрезков. Неистощимый же свет дона Луиса не ищет темноты, чтобы вспыхнуть: он разворачивается в пространстве, где вспышки и отблески открывают всякий раз новую беспрерывную череду очажков и светильников в неизмеримой протяженности темноты, которая начинается с того, что поглощает белое пятно, взлет соколиной молнии.