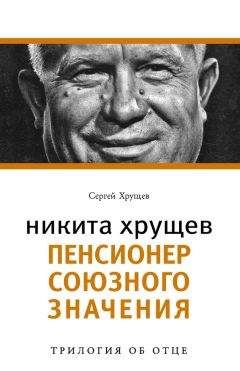Лоренс Даррел - Клеа
Голос у Бальтазара — «Войдите» — был на удивление далекий и слабый. Ставни были закрыты, и в комнате царил полумрак. Он лежал в постели. К немалому удивлению, я обнаружил, что волосы у него стали совершенно седыми и оттого он выглядел как опереточный старик, как пародия на самого себя. И только некоторое временя спустя я понял, что он просто-напросто перестал их красить. Но как он изменился! И ведь не скажешь другу при встрече: «Бог ты мой, как же ты постарел!» Я, однако, в первый момент именно так чуть было и не сделал, совершенно невольно.
«Дарли!» — проговорил он еле слышно и поднял в знак приветствия руки, сплошь обмотанные бинтами и оттого распухшие до размера боксерских перчаток.
«Что ты над собой такое сотворил?»
Долгий усталый вздох, потом он указал мне на стул. Беспорядок в комнате был жуткий. На полу у окна груда бумаги и книг. Не вылитый с ночи горшок. Шахматная доска и рассыпанные вокруг фигуры. Газета. Тарелка, на ней булочка с сыром и яблоко. В раковине гора немытых тарелок. Рядом с кроватью на столике стакан с мутной какой-то жидкостью, в стакане поблескивают вставные челюсти; его лихорадочный взгляд время от времени стыдливо на них запинается. «Ты что, и впрямь ничего не слышал? Вот удивил. Дурные вести, вести скандальные разносятся так далеко и так быстро — я думал, что и ты уже давно… Это долгая история. Вот расскажу тебе, и что я получу взамен — такой же ненавязчиво сострадательный взгляд, с каким Маунтолив приходит каждый день посидеть со мной и поиграть в шахматы?»
«А что у тебя с руками?»
«Всему свое время. Идею, к слову сказать, я почерпнул из твоей, голубчик, рукописи. Но истинный виновник, я думаю, все-таки вон те вставные челюсти в стакане. Ведь правда — как завораживающе блестят. Я уверен, что доконали меня именно они. Когда я обнаружил, что вот-вот останусь без зубов, я вдруг начал вести себя как женщина в известный период. Как еще объяснить тот факт, что я влюбился, ну, просто как мальчишка?» Он прижег этот свой вопрос сдавленным смешком.
«Сперва насчет Кружка — коего уже не существует, он ушел дорогой всякого сказанного слова. Явились невесть откуда мистагоги, теологи, а ведь любая секта чревата опасностью фанатизма, всегда готового подменить идею догмой! А для меня, как выяснилось, эта идея имела особенный смысл, пусть ошибочный и не до конца осознанный, но при том совершенно ясный. Я думал, что постепенно, шаг за шагом, освобожусь от оков желаний своих и страстей, от плоти. Наконец-то, казалось мне, я обрету философское спокойствие, некую гармонию, которая сведет на нет мою чувственную природу и очистит всякое деяние. Конечно, в те времена я никоим образом не сознавал за собой подобных prйjugйs[26] и был совершенно искренне уверен, что истину ищу ради нее самой. Но подсознательно я использовал каббалу именно в этих конкретных целях — вместо того чтобы дать ей использовать себя. Первый мой просчет, ошибка в счислении! Налей мне, пожалуйста, немного воды, вон там, в кувшине. — Он жадно прильнул к стакану, десны у него выглядели непривычно яркими. — Вот тут-то началось чистой воды безумие. Я выяснил, что скоро останусь без зубов. И меня всего как будто перевернуло. Мне это показалось чем-то вроде смертного приговора, окончательного свидетельства, что я состарился и что жизни до меня уже нет дела. У меня всегда был пунктик насчет того, какой у человека рот, я просто терпеть не мог дурного запаха, нечистых языков; но вставные челюсти — это был предел! Я, должно быть, сам себя ко всему случившемуся подтолкнул — так, словно мне была дана последняя отчаянная попытка, прежде чем старость окончательно наложит на меня свою лапу. Не смейся. Я влюбился как ни разу в жизни, по крайней мере с тех пор, как мне стукнуло восемнадцать. «Поцелуи будто тернии» — такая здесь есть поговорка, или, как сказал бы Персуорден: «Подкорка вышла на тропу войны, заброшен бредень семени, и древних черных чудищ тянут сетью». Но, дорогой мой Дарли, мне было не до шуток. Пока мои зубы были при мне! И объект я выбрал хуже не придумаешь, одного актера-грека. Звали его Панагиотис.[27] Он был и впрямь божественно сложен, очарователен, как град серебряных стрел, — и при этом человечишка мелкий, грязный, корыстный и пустой. И я это знал. А мне как будто и дела не было. Помню, как я стоял перед зеркалом и ругал себя на чем свет стоит. Но по-другому я уже просто не мог. И, по правде говоря, ничего особенного, глядишь, из этого всего и не вышло бы, если бы он постоянно не провоцировал меня на дикие сцены ревности. Помню, старик Персуорден говаривал в свое время: «Вам, евреям, только повод дай побыть несчастными», — я же отвечал ему обыкновенно цитатой из Моммзена насчет треклятых этих кельтов: «Они громили страну за страной, не основав при том ни одной собственной. Они так и не создали ни сильного государства, ни сколь-нибудь заметной собственной культуры». Нет, дело было вовсе не в национальном пунктике: то была убийственная любовная лихорадка, о которой разве что читаешь в книгах и которая в нашем Городе не такой уж редкий диагноз. За несколько месяцев я умудрился стать запойным пьяницей. Если у кого-то возникала во мне нужда, меня искали в борделях. Я выписывал рецепты на наркотики, чтобы он их потом продавал. Что угодно, лишь бы только он меня не бросил. Я сделался слабым, как женщина. Был жуткий скандал, вернее, целая серия скандалов, после которых моя практика стала таять просто на глазах, покуда не растаяла совсем. Амариль из милости тянет на себе мою клинику, пока я не выйду из нокдауна. Как-то раз он протащил меня по полу через весь клуб, а я хватал его за полы пальто и умолял не оставлять меня! Меня сбили с ног на рю Фуад, меня отходили тростью прямо напротив Французского консульства. Вокруг меня суетилась целая куча друзей с вечно вытянутыми и озабоченными лицами, и все они старались как могли не довести дела до беды. А что толку! Я сделался положительно невыносим! Так оно все и шло день за днем этой жуткой жизни — и знаешь, мне даже нравилось, что меня унижают, презирают и бьют и превращают черт знает во что на глазах у всего Города! Такое было впечатление, будто я хотел поглотить весь мир, выпить из него до капли всю любовную боль, всю тоску — пока она меня не излечит. Я дошел до самой грани, и безо всякой посторонней помощи: или дело было все-таки в зубах?» Он бросил в их сторону долгий яростный взгляд, вздохнул и дернул головой, словно от внутренней боли, при воспоминании о прошлых своих прегрешениях.
«Но рано или поздно все кончается, даже и сама жизнь, судя по всему, не является исключением! Нет особенной заслуги в том, чтобы страдать, как я страдал, подобно вьючному животному: спина истерта в кровь, и даже языком не дотянуться. Вот тогда-то я и вспомнил об одном твоем замечании в рукописи насчет того, какие у меня уродливые руки. Почему бы мне их не отрезать и не выкинуть в море — весьма глубокомысленная была рекомендация. А в самом деле, почему бы и нет? Я к той поре настолько одурел от наркотиков и пьянства, что даже боли, как мне тогда казалось, не должен был почувствовать. В общем, сказано — сделано, но на поверку вышло, что проще все-таки сказать, чем сделать: ох уж эти хрящи! Я оказался в ситуации тех придурков, которые пытаются перерезать себе глотку и вдруг — бац! — натыкаются на пищевод. Их всегда откачивают. Но когда я отчаялся в славном своем начинании, мне на ум пришел другой литератор, Петроний. (Экую все-таки роль литература играет в наших жизнях!) Я улегся в горячую ванну. Но кровь просто напрочь не желала из меня течь, а может, во мне ее попросту не осталось. Те несколько капель, которые мне все ж таки удалось добыть, цветом были — как битум. Я уже начал взвешивать всякие иные варианты, когда объявился вдруг Амариль в самом что ни на есть ругательном расположении духа и привел меня в чувство, накачав седальгетиками часов этак на двадцать глубокого сна, — а сам тем временем привел в порядок и комнату, и мое бесчувственное тело. Потом я заболел надолго и всерьез, мне думается, со стыда. Да, стыд был основной причиной, хотя, конечно же, я сильно подорвал свое здоровье всеми этими излишествами. Я отдал себя в руки Пьера Бальбза, он выдрал мне остатки собственных моих зубов и снабдил этой эмалированной нежитью — art nouveau! Амариль попытался устроить мне сеанс доморощенного психоанализа — но чем, скажи на милость, может помочь человеку ущербная наука, увязшая по недосмотру одной ногой в антропологии и в богословии — другой? Они же до сих пор многого, очень многого не знают: что в церкви, например, опускаешься на колени так же, как опускаешься на колени, чтобы войти в женщину, или что обрезание берет свое начало от обрезания виноградной лозы — иначе весь сок уйдет в лист и плодов не будет! Мне не хватало философской системы, на которую я смог бы опереться, пусть даже простенькой, как у Да Капо. Помнишь, Каподистриа излагал нам свой взгляд на природу вселенной? "Мир есть некий биологический феномен, и он исполнит свое назначение тогда, и только тогда, когда каждый отдельный мужчина отведает от всякой женщины, а каждая отдельная женщина — от всякого мужчины. Понятное дело, на все это потребуется известное количество времени. И нам не остается ничего другого, как только помогать осуществлению глобального процесса и давить по мере сил виноград. А загробная жизнь, она не может состоять ни из чего другого, кроме исполненных желаний, а проще говоря — из пресыщенности. Игра теней в раю — прекрасные ханум мелькают на экране памяти, уже нежеланные и не желающие желанными быть. И все наконец успокоятся. Но не все сразу, не так скоро, оно и понятно. Терпение! Avanti![28]" Н-да, у меня ведь было время подумать, покуда я лежал здесь и вслушивался в скрип камышового кресла и в уличный шум. Друзья ко мне были добры и часто навещали меня с подарками и с разговорами, от которых у меня потом болела голова. И вот я начал выплывать на поверхность томительно, едва-едва. Я сказал себе: «Жизнь здесь хозяйка, и живем мы вопреки дарованному нам зернышку смысла. Долготерпение — единственный учитель». Я тоже кое-чему научился, но какой ценой!»