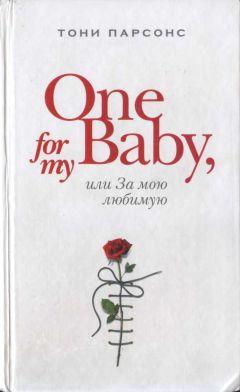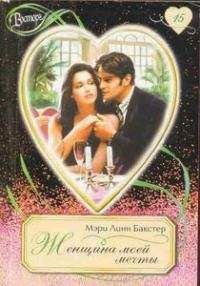Роберт Шнайдер - Сестра сна
После того как Нульф Альдер отдал на разорение домишко Большейчастью, туда повалила толпа, и менее чем через полчаса от всего крошечного хозяйства остался голый скелет, все было словно саранчой пожрано. Плоды кустарного промысла, искусные украшения, многочисленные ножички для резьбы и рубанки, накрахмаленные воротнички, очки, деревянные панели, оконные ставни, постельные принадлежности, доски и планки — все разграбили. Маттэ Альдер и Михель-угольщик одновременно ворвались в стойло. Они накинули на св. Елизавету веревку и начали спорить о том, кому должна достаться корова. Маттэ был сильнее, он столкнул Михеля в яму с навозом и вывел тощую скотину на волю. Михель же пришел в ярость, догнал обидчика и что было силы дал корове пинка. Корова потеряла равновесие, пошатнулась и, словно мешок с мукой, покатилась вниз по склону, сломала себе шею и околела. Михель-угольщик загоготал, вытер рот, измазанный навозом, с таким видом, будто откушал меду, и, торжествуя, крикнул Маттэ:
— Эй ты, дырка мокрая!!! А корова-то моя!!!
В первые недели после пожара снегу выпало чуть ли не по пояс. Потом наступила стужа, потом наступил голод. Однако эшбергские крестьяне держались вместе. Те, кого обошел огонь, делились молоком с оголодавшими и обносившимися за долгие ночи людьми, пекли хлеб, давали кое-какую одежонку, утешали, ободряли и даже выручали хворостом со своих делянок. Воспрянувшие духом погорельцы еще в январе принялись раскапывать развалины своих дворов. Дети и женщины сгребали снег в огромные кучи, и если кто-то вдруг находил что-либо из уцелевшей утвари, то с сияющими глазами показывал свою находку всем и каждому. В лесу у южной стороны деревни начали рубить новые просеки, и те, кому принадлежал лес, не скупились, разрешали валить самые толстые ели, давали под тягло своих лошадей, быков и коров, выстраивали целые обозы, которые тянулись к северной стороне. Так как зимний день короток, скотину нещадно настегивали, и от шкур животных в звенящем январском воздухе валил пар.
Сердцами людей, казалось, завладело какое-то загадочное великодушие. Те, что терпели нужду, не понимали, почему им так бескорыстно оказывают помощь. Они внушали себе, что это делается из благодарности Господу: ведь он сохранил дома живущих на южной половине. Никогда еще ни один Альдер не выручал по доброй воле ни одного Лампартера, не говоря уж о том, чтобы Альдер помогал Альдеру. Когда кому-нибудь случалось убирать сено за несколько минут до страшной грозы, обливаться потом и жилы рвать, сосед спокойно поглядывал из окна в надежде: авось пронесет, мол копнить сено рановато. И только когда начинался ливень, сосед спешил на помощь.
Уже летом того же года стало ясно, что основания для недоверия были. Оказывается, щедрые благодетели тайком вели списки, в которые аккуратнейшим образом вносилась каждая вязанка дров, каждый фунт коровьего масла, каждый каравай хлеба, каждое яйцо и каждый глоток вишневой наливки. Даже щепоть табаку, которой потчевали чуть ли не насильно, присовокуплялась к списку даров. А потом пришел день большого расчета, и заимодавцы не забывали долга в течение десятилетий, покуда не получали все до последнего гроша.
В несчастную рождественскую пору 1815 хода Элиаса видят бесцельно блуждающим по деревне. Проваливаясь в снег, он беспокойно бродит по огородам и выгонам.
Дыряв и изодран воскресный костюм — единственное, что осталось у него из одежды. У каждого, кто попадается ему на пути, больно сжимается сердце. Он стоит на ветру, как молодое вишневое деревце, которому мороз не дал расцвести. Тем, кто встречает его взгляд, становится не но себе, и кое-кто догадывается: дух детства уже угас в Элиасе. По утрам, пробуждаясь в трактирной зале, он не может удержать слез. Потом сидит неподвижно и считает сучки на темной поверхности деревянных стен. Пряжа мыслей тянется от сучка к сучку. Он думает о слабоумном братишке, когда слышит, как тот хватает ртом воздух на груди у матери. Иногда думает о Зеффе, которого начинает ненавидеть. Когда появится зелень, втайне клянется Элиас, он не будет помогать отцу ворошить сено, скрести корову, не будет давать болтушку маленькому теленку, а осенью убирать листья. Зато ночи, когда в трактире все на разные лады дышало, отхаркивалось, храпело, бормотало, кашляло, свистело, — ночи принадлежали Эльзбет, его возлюбленной, которой он спас жизнь. И Элиас не спит, он слушает ее дыхание, тонкое колебание губ. Он мысленно обоняет ее желтые, как осенний лист, волосы, нежно прикасается к маленьким ушам. Вот он зажмуривает глаза и начинает считать удары ее сердца. Мысли его обретают спокойное течение. Порой тело девочки вздрагивает, нарушая состояние полного покоя. В Мечтах об Эльзбет проносятся огненные вихри и мелькают картины: она ищет своего рыжего кота и не может найти его. Тут Элиасу хочется встать, подняться над телами спящих и пойти к Нульфихе, у ног которой лежит Эльзбет. Он бы положил покрытую холодным потом ручонку Эльзбет на свое теплое плечо, он бы обмахивал ладонью ее лобик. Но он не решается. И вот он напевает про себя колыбельную песню девочке. И незаметно засыпает сам.
Эльзбет и весна
Пролетело время, и природа обрушилась всеми своими великолепными красками на луга и огороды. Ссадины и ожоги на ее коже затянулись и зажили, и ясень, ее любимое дерево, снова пошел в рост и заполонил все вокруг. Пришло время, и заново отстроенные дома гордо развернули коньки крыш в строну Рейнской долины, а сверкающая белизна свежеотесанных досок на фасадах и дранки на кровлях слепила глаза даже в Аппенцелле. Те, кто больше других обнищал после пожара, стали отходить душой, а несчастная вдова Эдуарда Лампартера — еще снег не растаял — начала частенько заглядывать в дом Кунриха Альдера. Через год они стали супругами, а еще через год могила Эдуарда оказалось безобразно запущенной. Прошло время, и забылись слезы и жалобы, весна вселила в души гордую уверенность, в храмовый праздник люди смеялись, вспоминая минувшую беду, а в ненастные ночи рассказывали домочадцам, каково было видеть испеченную в огне скотину или сгоревшего младенца, кричали детскими голосами или начинали реветь, словно корчась от боли. Но как бы ни тешились люди забвением, след былого несчастья неизгладимо впечатался в души и еще долгие годы терзал их бесчисленными кошмарами.
Эшбергские крестьяне очень даже понимали, что именно хотел сказать им Бог Первым пожаром. И потому становились все строптивее и отнюдь не скрывали своей враждебности к Богу и Святой Церкви. Особенно Нульф Альдер, он не желал благословения для своего нового дома. Там, где когда-то у него был угол с образами, он сколотил нишу вроде алькова; отныне на святом месте почивал он сам.
А Йоханнес Элиас Альдер повзрослел. В пятнадцать лет он резко вытянулся, в девятнадцать выглядел зрелым мужчиной лет сорока. Он был высок ростом, его узкие ладони имели вполне мужской вид, а в сенокосную страду, когда его опаляло солнце, на лице обильно высыпали веснушки. На сенокосе он немного надорвался и повредил себе крестец, кожа на теле потрескалась и огрубела.
Элиас нарушил свою клятву возмездия отцу. Он помогал ему уже на первом покосе, вычесывал граблями огороды, доил корову, кормил теленка, убирал листву по осени, справляясь со всем без посторонней помощи. Но Зеффа, так любимого им когда-то, убийцу резчика Большейчастью, Элиас избегал. С того самого дня и Зефф начал избегать сына. В сущности, Элиас порвал со своими. Брат Фриц для него ничего не значил, несчастье матери никогда его по-настоящему не трогало, пожалуй, он не очень-то и расстроился бы, если бы однажды увидел в кровати ее навеки похолодевшее тело. И лишь слабоумный братишка вызывал в нем нежные чувства. В свободное время он играл с ним, брал в свою каморку, учил его ходить, издавать звуки и созвучия, понятные только им двоим. И когда Элиас открыл в маленьком идиоте настоящий музыкальный дар, его любовь к брату стала еще сильнее и они были уже братьями не только но крови, но и по душевному родству.
И все же лицо Элиаса Альдера сохранило все нервические черты ранней юности.
Судя по рту, этот человек не был склонен к примирению, хотя имел красивые и ровные губы. Вокруг рта залегали морщины, а спокойная линия носа с широкими крыльями лишь усиливала выражение постоянного недовольства. И хотя череп был правильной формы (для деревни — диво дивное), яркие радужки глаз немилосердно портили лицо. В сравнении же с ужасными физиономиями представителей эшбергской породы Элиаса можно признать красивым мужчиной, и лампартеровская Сорока точно подметила, что приснопамятный курат Бенцер сумел-таки отлить видную фигуру.
С семнадцати лет он отказался от короткой стрижки, и его редкие выгоревшие волосы достигали плеч. Одеваться он любил в черные сюртуки и вообще предпочел бы носить только черное, если бы это не грозило репутацией святоши. Он выработал несколько манерную семенящую походку и на упражнения в ней потратил более года. Эта манера была единственным заметным для постороннего глаза протестом против неуклюжего крестьянского мира, в который он никогда не хотел входить. И догадывался он об этом или нет, походка была точным отражением его музыкального мышления. Ибо ночное музицирование на органе представляло собой изящно задуманные, как бы парящие композиции, в которых одна мимолетная торопливая мысль догоняла другую, обновляя или опровергая ее. В этом сущность всякого гения: он в совершенстве умеет оживлять вещи, коих не видел и о которых не слыхал. Элиас никогда не слышал полифонической музыки, ведь Оскар Альдер владел лишь грубыми, беспомощными аккордами.