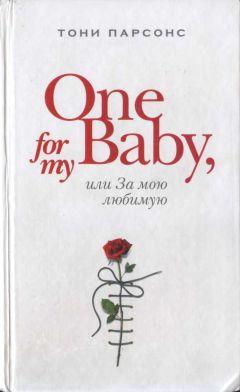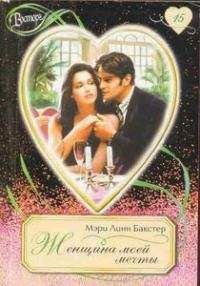Роберт Шнайдер - Сестра сна
Тем временем Элиас уже приставил лестницу к южной стороне дома. Он припал ничком к еще не тронутой крыше и принялся голыми руками отдирать кровельную щепу от досок. Руки кровоточили, натыкаясь на ржавые гвозди, но он не чувствовал боли. Он начал выламывать ногами доски кровли, покуда не образовалась дыра, скользнул в нее и, к счастью, упал на груду кукурузных початков, разложенных на полу для просушки. Вдруг он услышал глуховатый кашель. Элиас зажмурил глаза и стал напряженно прислушиваться. По шипению и треску горящего дерева он догадался, в каком направлении движется огонь, и быстро сообразил, какие части дома охвачены пожаром. Девочку он нашел в задымленной комнате. Малютка забилась под кровать и лежала там с испуганными глазами, вцепившись зубами в тряпичную куклу. Он вытащил девочку, потянув за слабую ручонку, поставил ее на ноги и прижал к себе…
И тут сердце Эльзбет оказалось рядом с его сердцем, и удары их слились. И тогда Йоханнес Элиас Альдер исторг такой мощный и такой печальный вопль, будто в полном сознании ему привелось быть настигнутым смертью. Этот крик мгновенно лишил девочку чувств, и она бессильно приникла к телу подростка. Так сбылось предзнаменование, которое он пятилетним ребенком услышал на берегу ручья, уловив стук сердца еще не родившегося существа. Этой неописуемо страшной ночью Йоханнес Элиас Альдер влюбился в свою кузину Эльзбет Альдер. Ему дано было влюбиться, ибо Господь еще долго не выпускал его из рук своих.
А в маленьком ущелье, именуемом Петрифельс, в ложбинке таится Петер, раненый детеныш человеческий. Отблески огня играют на его засаленных волосах. В вытаращенных от удивления глазах отражается объятый пламенем северный край деревни. Рот у мальчика разинут, губы пересохли. Он крепко держит в руке трутовик и больше не хочет выпускать его. Петер считает дворы: пять, шесть, дом Даниеля Лампартера и Маттэ Альдера тоже, и шлюхин дом, и дальше тоже горят. Вот и настал час его мести. Нет, на колени его не поставят и каяться в краже он не будет. А в глазах сверкают отблески горящей деревни, и они увлажняются от злорадства, и мальчик утирает слезы своей искалеченной рукой и начинает молиться, кротко твердя свою просьбу о том, чтобы отец подох. И вот ломающимся голосом Петер запел, все громче и громче: «Уважаемый родитель, вы должны подохнуть!»
Всю ночь и половину следующего дня не унимался Первый пожар. А трава в округе горела еще дольше. Огромная низкая туча наползла на Эшберг, и тут все окрасилось светом, какого еще никто не видывал. Земля словно зажгла небо. К зардевшейся туче поднимались столбы дыма, дотлевали, время от времени вспыхивая вновь, стволы деревьев. Пятнадцать дворов сгорело дотла. Погибло двое прикованных к постели стариков. И четверо малышей, включая и растоптанного в церкви. Сгорело около ста голов крупного и мелкого скота. Огонь не пощадил и многих из тех, кто пытался спасти свой скарб. Вся северная половина деревни превратилась в пепелище. Ущерб, нанесенный лесу и посевам, описать невозможно. Сгорело все, что способно гореть.
Тот, кому довелось просто видеть этот пожар, уже хлебнул горя. Не говоря уже о том, что на многие мили вокруг все трещало и корежилось в языках пламени, что повсюду раздавались крики и стоны, на страшную смерть были обречены и бессловесные создания. Огонь выгнал лесное зверье к самому обрыву, путь назад был отрезан. Целое стадо ланей бросилось в пропасть. На пушных зверях с шипением загоралась шкура, дымясь и сгорая заживо, они, обезумев, кружились на месте. Птицы с опаленными крыльями падали на горящую землю, поскольку жар поистине достигал небес: потоки раскаленного воздуха поднимались более чем на милю.
И чуть позже, когда Элиас, ступая по январскому снегу, неслышными звуками пытался докричаться до лесных животных, ни одно из них не показалось на белом с черными головешками деревьев горизонте. Ни лань но имени Рези, ни барсук Вунибальд, ни рыжий лисенок Липе, ни хорек Зебальд, ни надутый снегирь.
Из всех строений на северной стороне остался лишь один маленький домишко. Увы! Нужно добавить, что это было жилище резчика Романа Лампартера по прозвищу Большейчастью.
Строения же южной половины Эшберга стояли как ни в чем не бывало. Здесь ни в малейшей степени не пострадали ни церквушка, ни чья-либо усадьба, ни единая щепка на гонтовой крыше. Это подогревало злобу жителей северной стороны, а когда они усматривали в чем-то несправедливость, то обычно приходили в слепую ярость.
В Рождество восемь семейств увязывали свой скудный скарб и, проливая слезы, покидали родной Эшберг. По руслу Эммера ушли они вниз, к долине Рейна, где со временем либо принимались попрошайничать, либо до конца дней своих батрачили ради куска хлеба, возделывая чужую землю. Среди них оказались Хайнц и Хайнциха, а также семья альдеровской Сороки. Мы навсегда расходимся в нашем повествовании с этими людьми и связанными с ними историями.
Однако Сорока, кажется, сумела покинуть Эшберг лишь после того, как по деревне был пущен безумный клеветнический слух, жестокие последствия которого сказались в день св. Стефана. Если верить очевидцам, занявшим надежную наблюдательную позицию, Большейчастью закрыл ставни своего домика и до самого утра колобродил по комнате. Волосы у него были будто бы взъерошены, на губах висели клочья пены, и в гаком виде он сначала разговаривал с собственной тенью, потом катался по полу, словно в припадке падучей, а после написал какую-то бумагу, на которой четко было видно слово «гореть». В кромешной темноте погреба он совершал богомерзкие действия: читал «Авемарию» с конца, на мусульманский манер, а потом аж помочился на Распятие — все это из укромного места в кромешной тьме якобы наблюдала Сорока, если верить слухам.
Им, разумеется, не верил в Эшберге даже самый последний идиот, и тем не менее то, что деревню поджег резчик Роман Лампартер, считалось доказанным. Слишком уж долго терпели эшбержцы, как этот коротконогий человек с густыми бровями и сетью веселых морщин дерзко высмеивал их веру, их уклад жизни и все их ежедневные труды. Он имел обыкновение надевать по будням воскресный костюм и разгуливать по деревне в самый разгар сенокоса. Подойдя к человеку, занятому работой, он снимал очки, сдувал со стекол цветочную пыльцу, а затем, поигрывая резной тросточкой и важно поправляя накрахмаленный воротничок, с высокоумным видом пускался в рассуждения о тяготах крестьянской жизни. Он говорил о том, что результат не стоит затраченных трудов, что тяжелый труд большей частью не кормит и потому было бы разумнее сидеть сложа руки и вести беззаботную жизнь под великолепной сенью голубых небес, подобно птицам, щебечущим в кронах деревьев. Такие вот речи крестьяне вынуждены были выслушивать от человека, который не мог накосить себе и копны сена. И взмокшие косари сплевывали от негодования, хотя в пересохших ртах явно не хватало слюны.
Но больше всего возмущал крестьян вид жилища этого человека. Он, ни разу не побывавший на мессе — и даже накануне Рождества, — вздумал построить свой домишко по образцу дарохранительницы в эшбергской церкви. Более четырех лет ушло у него на возню с деревом, и когда домик был наконец готов, его сходство со священным предметом обнаруживалось в каждой детали, даже в мелочах готического орнамента. И, зная душу эшбергского крестьянина, нетрудно понять, отчего Большейчастью так не любили и даже ненавидели в деревне. Уж ежели так рассуждать, кто бы отказался жить в дарохранительнице? А замахнулся-то именно он — голоштанник и антихрист, вздумавший со Спасителем свое жилье делить, — это была вопиющая несправедливость, это был страшный грех. Большейчастью недостоин давать свой кров Спасителю. Кто-кто, но только не он!
В довершение всего к этому греху добавились новые. Свою единственную дойную корову — вконец отощавшую скотину с совершенно седой мордой и гноящимися глазами — он назвал Елизаветой в честь св. Елизаветы за то, что корова уже в преклонном возрасте принесла ему теленка. Перечисление всех возмутительных для земляков поступков резчика заняло бы слишком много места, их хватило бы на целую книжонку.
Утром, в день св. Стефана, мужики ногами выломали дверь его дома, с грохотом ввалились в комнатенку, оплеухами вырвали хозяина из глубочайшего сна и хотели уже со всего маху опустить на лицо здоровенный кол, но один из них остановил прочих и призвал сжечь живьем богомерзкого пса. Двое из тех, что пришли, сорвали с него ночную рубашку, сбросили его с кровати и оторвали ему ухо; третий же в это время ударами молотка крушил все, чем было изукрашено и обставлено помещение. При этом взгляд третьего упал на жестяной бидон, а на нем была надпись «Для лампы». Потом они спустили хозяина с лестницы нагишом, он скатился на землю, и тут ему повезло: удалось выскользнуть из их рук. Они бросились преследовать и оказались проворнее, так как их гнала грубая сила убийц. Он сделал крюк и еще раз ушел от преследователей. Спотыкаясь, карабкаясь по склонам, он вломился наконец в заросли подлеска, поднимавшегося к самому ущелью, известному под названием Петрифельс. Но перед ним была пропасть — и оставался лишь один путь: в завесу дыма, через обугленные и еще тлеющие остатки сгоревшего леса. Он был движим лишь силой смертельного страха, а она слепа и не ведает цели. Па какое-то время ему удалось затеряться в дыму. Кожа на подошвах у него попросту сгорела, но он не чувствовал ни жара, ни холода и все больше углублялся в дымный мрак. Потом он вдруг услышал их голоса, они звучали где-то впереди, совсем рядом. Он повернул назад, качал метаться из стороны в сторону, наткнулся на обломок дерева, громко вскрикнул. И тут мглу прорвал черный от сажи кулак, беглец был поймай.