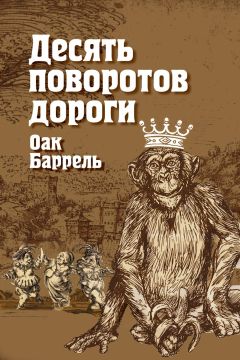Грегуар Делакур - Четыре времени лета
– Я так не думаю. Я украду вас у вашего мужа. Я сохраню вас, Луиза.
* * *И тогда я смотрю на него.
Шестидесяти ему, наверно, еще нет. Трогательные морщинки в уголках глаз. Глаза светлые, гипнотические и волнующие, точно у ездовых собак, всегда забываю, как они называются. Мои пальцы гладят линии его лица. Его щеки колются. Губы у него пухлые, плод, который так и хочется надкусить. Он не идеально красив, но в нем, мне кажется, есть мощное обаяние; чем-то похож на Ива Монтана в «Сезаре и Розали» – та же неотразимая улыбка, та же явная сила и те же озадачивающие слабости. Я опускаю голову ему на грудь, и он прижимает меня к себе, и его рука, которая творит чудеса, крепко держит мое плечо. Мы долго идем так по дамбе. Шагаем в ногу, подлаживаясь, он чуть укорачивает свои шаги, я удлиняю мои. Как труден этот ритм первого раза. Мы улыбаемся. Не разговариваем. Между нами нет ничего, кроме этого нового тепла; тепла наших желаний, наконец открытых друг другу. Наших нетерпений. Впервые после моего материнства я чувствую себя красивой об руку с мужчиной.
Желанной.
* * *В один серый и горестный день, когда муж стал меньше заниматься со мной любовью, я подсчитала, что, помимо смеха, детей и других счастливых моментов, двадцать пять лет совместной жизни – это еще и восемнадцать с лишним тысяч стирок, тысячи часов глажки и еще тысячи на то, чтобы складывать, убирать, пришить пуговицу, вывести стойкое пятно, удостовериться, что его любимая рубашка безупречна на завтра, для такого важного совещания; десять тысяч программ посудомоечной машины и как минимум вдвое больше движений, чтобы расставить по местам в шкафчиках тарелки, стаканы, рассортировать приборы, отмыть блюдо, десять блюд, тысячу блюд и видеть, как мало-помалу грубеют мои руки, чувствовать, как подушечки пальцев превращаются в тонкий наждак. Так что «да», сто раз «да», почему бы сегодня не рискнуть быть счастливой. Наконец. Для себя. В ненасытной страсти мужчины. Чтобы он ласкал меня снова и снова, как делал это чуть раньше, в дюнах, с этим нетерпением, понимавшим мой голод, пробуждавшим мои уснувшие волны, утолявшим мои желания бурь и гибели в пучине.
О, я кричала. Боже мой, как мне стыдно. Я так кричала, что, наверно, слышал весь пляж. Я розовею, я смущена. Моника никогда бы на такое не отважилась: даже, и особенно, со своим мужем; никогда не отважилась бы дать себе волю на людях, рискуя, что ее застукают.
На Пляжном бульваре, на пересечении с улицей Дороте, я узнаю чету давешних старичков из «Мэхогэни». Они одеты в одинаковые бежевые жилеты. Держатся за руки, словно чтобы не дать друг другу улететь, если ветер вдруг вздумает сыграть с ними злую шутку и попытается их разлучить. Но они меня не видят. Я вздрагиваю. Я хочу когда-нибудь стать на них похожей, говорю я себе. Хочу, чтобы кто-то держал меня за руку и никогда ее не выпустил. Хочу не бояться больше времени, которое проходит. Скуки, которая находит. Любви, которая уходит.
Я хочу истории, рассказанной до конца в обожании. Как Филемон и Бавкида, я хочу верить, что можно состариться вместе, умереть в один день и, как они, превратиться в дерево.
В одно дерево.
Скоро я скажу ему «да». Я скажу ему: украдите меня, сохраните меня. Скоро я скажу ему безвозвратное.
* * *Любитеменянеспрашивайтеразрешенияберитепользуйтесьукрадитеменявсе вашеяничегонезнаюнаучитеменяразбудитеменяятакдавносплюяхочукончатьисмеятьсяиплакатьсвамиянебоюсьмненравятсявашипальцыкаконишарятпомненапоминаяпальцыРобертаКинкейдавМостахокругаМэдисонкогдаончиститовощидляужинакоторыйонаимготовитяплакалавкиномневдругзахотелосьэтогокрепкогоплечавжеланииэтогоудараногойвдверьмоихколебанийзахотелосьэтойтерзающейгрубостидаядарюваммоелучшеедаскажитемнечтовасзовутРобертичтовыменярастерзаете.
* * *– Меня зовут Робер.
А я люблю тебя. Но этого я не говорю. Отвечаю только:
– Я рада.
* * *Позже, под вечер, когда мы шли по улице Сен-Жан к «Вестминстеру», к моему номеру, я вдруг остановилась, привстала на цыпочки – боже мой, я и забыла, какой он высокий, – и поцеловала его, как никогда бы не посмела раньше. Горячечный поцелуй, прямо здесь, посреди улицы, посреди людей. Поцелуй непристойный. Редкий. Это был первый поцелуй, самый важный, самый сокровенный, тот, что открывает сердце и нутро.
Конечно же, мы удостоились одной из самых глупых реплик на свете: «Для этого есть отели!» И я, смеясь, ответила: «А мы туда и идем, как раз туда!» А Робер еще крепче прижал меня к себе, к своему желанию, теплому, твердому, животному; и я почувствовала себя польщенной. Красивой и единственной.
Позже, в соленом и жгучем сумраке номера большого отеля, после упоения наших забвений, после сияющей черноты, непристойных неприличий, грубых, неслыханных ласк, после слез, которые есть сама суть наслаждения, на грани удушья, так, словно речь шла о моей жизни, о моем последнем вздохе, я смогла наконец признаться ему, как необходимо мне быть желанной, отдаваться вновь и вновь, снова принадлежать мужчине.
* * *Спасибоспасибоспасибоспасибоспасибо.
* * *Небо черно, и дамба черна от народа.
Все поют, пьют, смеются. Последнее 14 июля века похоже на те шумные праздники, которым нет дела до завтрашнего дня, до похмелий и прочих разочарований.
Мы с Робером идем медленно. Держимся за руки, как те прекрасные старички, которых мы видели раньше, днем. Наши руки горят, наша кровь кажется густой – точно река, бурная, радостная, ненасытная.
Вдали глухо рокочет море, кажется, будто голодный зверь, притаившийся во мраке, поджидает жертву. Дети тоже празднуют: на пляже мальчики танцуют с матерями, слишком громко смеясь, девочки – с отцами, стараясь быть очаровательными и утонченными, быть уже большими – ах, если бы они знали!
На огромной танцплощадке, окруженной желтыми, синими, зелеными, красными лампочками, оркестр заиграл первые ноты «Мертвого сезона». Некоторые пользуются томностью мелодии, чтобы сблизиться; другие – чтобы прильнуть друг к другу, раствориться друг в друге, начать игру, которая возбудит кожи, тела, и после попробовать друг друга на вкус, растерзать, в дюнах или сырых съемных комнатах на берегу моря. Мы и сами не отстаем. Наши пальцы снова сплетаются, стискиваются до хруста, губы терзают друг друга, пылая этой новой, нежданной страстью – которая сметет наши прежние жизни.
Ниже, на пляже, женщина лет тридцати пяти стоит одна; она закурила сигарету – это огонек ее зажигалки привлек наше внимание. Она смотрела, как дым улетает в ночь, провожала его взглядом, пока он совсем не растаял, как смотрят вслед, долго-долго, даже больше не видя, кому-то, кто нас покидает. Она делает пару танцевальных па, но одиночество – плохой партнер. Оно не пускает к беззаботности. Обрекает на неловкость.
Потом она удаляется к морю, пошатываясь с некоторой непринужденностью, и растворяется в холодной тьме.
У одного из буфетов-однодневок мы покупаем два бокала вина, кислятина кислятиной, светлое, как «Гренадин», но какая разница. Мы чокаемся за нас, молча, в шуме и криках, и я поднимаю мой бокал за мое такое стремительное возрождение, и загадываю желание, чтобы ничто больше не изменилось, чтобы никогда не вернулась Моника. И как будто где-то там, наверху, есть Бог, прислушивающийся к просьбам и горестям нашего мира, в ту самую минуту, когда я поднимаю бокал к небу, на севере, над Ардело, расцветают первые разноцветные огни фейерверка; это наше крещение; море ловит их летучие искорки, осколки драгоценностей: розовые бриллианты, алые турмалины, виноградные топазы, которые гаснут крошечными язычками пламени, коснувшись воды.
И тогда Робер смеется, и его смех как подарок.
* * *Позже я спрашиваю его. И он мне рассказывает. Тоже три сына, как у меня. Я опускаю голову, улыбаясь. Архитектор. Красивые дома, давным-давно, смелые линии, небывалые формы. Потом уродливые дома. Деньги не предполагают вкуса. Приходилось делать то, что не нравилось. А потом многоэтажки, халупы, чтобы втиснуть как можно больше народу, картонные стены дешевизны ради, плитка made in край света, которая раскалывалась, стоило чему-нибудь на нее упасть. Строить требовалось быстро, это был вопрос политики, выборов, барашка в бумажке. Подступало отвращение, но у него так и не хватило мужества все бросить и построить дом своей мечты. Но после вчерашнего, Луиза, после вашего бокала шампанского в «Мэхогэни», после ваших ног-циркуля, после вашего затылка, вот что я решал сделать, если вы согласны: построить дом, дом для меня и для вас, где никто не жил до нас с вами, где стены не будут помнить ничего, кроме наших слов, наших вздохов, нашего дыхания. Там не будет ничего, что мы бы не выбрали вместе.
Я глажу его лицо и даю волю слезам – бог с ним, с макияжем.
– Я согласна, Робер. Я тоже этого хочу.
Снова я знаю, что сошла с ума. И мне это очень нравится.